Европа
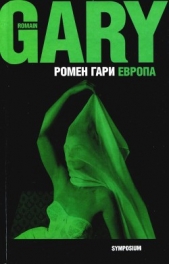
Европа читать книгу онлайн
«Европа» — один из поздних романов Гари, где автор продолжает — но в несколько неожиданном духе — разговор на свои излюбленные темы: высокая любовь и закат европейской культуры.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Может быть, она выразилась не вполне определенно, но как назвать то, что не имеет названия? Дантес все-таки прошел мимо нее и укрылся на своих вершинах: «Чрезмерная гуманность, — заметил он, — в конце концов всегда приводит к мечтам о смерти от избытка чувств; когда „красота души“ начинала требовать социальных преобразований, Запад всегда пытался спрятаться в своих фантазмах, и все, что культура недодала реальности, выливалось в войны и фашизм. Каждый раз, когда культура „немилосердно“ принуждала европейское сообщество открыть глаза, оно распадалось, вместо того чтобы сплотиться, а подготовленная им революция оборачивалась против него же. Революции, совершающиеся во имя лучших чувств, давят эти чувства, которые, подготовив почву для идей, затем оказываются сломленными и отброшенными. Когда европейцы устраивают революцию, фашизм или большевизм, это всегда оборачивается против них самих, и они падают первыми жертвами своих начинаний: все герои Чехова, как и все без исключения выдающиеся большевики, которых Сталин впоследствии убрал, были просвещенными буржуа, испорченными культурой. Бухарин настаивал на том, что следует отказаться от чувствительности, чтобы достичь железной логики, и Сталин признал его правоту, расстреляв его…» — он негромко, как провинившийся ребенок, рассмеялся, опустив глаза, управляясь с ножом и вилкой с той непринужденностью, какую прививают вам гувернантки, следя за тем, чтобы вы держали локти прижатыми к бокам.
— Извините, что я говорю о себе такие вещи… Песни отчаяния отнюдь не самые прекрасные, потому что они лишь дают поэтам возможность обходить молчанием истинное отчаяние, то, которое не имеет ничего общего с поэзией… На самом деле, все время возвращаясь к одному и тому же, я лишь хочу сказать, что новые тенденции в психиатрии, несмотря на несомненно ошибочное полное невнимание к данным биохимии, тем не менее сделали очевидным основополагающий аспект безумия: его намеренность… Определенное место отводится незаинтересованной стороне… Больной… В общем, пациент делает свой выбор… Посылы собственной воли могут доходить до саморазрушения… Каждый раз, когда Европе приходилось взглянуть в лицо собственной сущности — неприемлемой социальной реальности, — она кидалась в безумие, убийственное безумие. Когда ее общества стали говорить с Леоном Блюмом на языке социального гуманизма, это обернулось триумфом фашизма…
— У вас превосходно получается мутить воду, — сказала Эрика.
Он взял ее за руку:
— Вы слишком много думаете о матери. То, что с ней происходит, объясняется… трагичностью ее жизни. Вам же ничего не угрожает. Надо порвать с этой навязчивой идеей, вот и все… Давайте сменим тему.
— Вы только это и делаете…
Он замолчал, потом вдруг это лицо, покрытое паутиной какой-то тусклости — единственный допускаемый им признак возраста, — молнией прожгла мимолетная улыбка, прорезав в углах глаз тонкие морщинки…
— Значит, мне это не слишком удается, раз вы это заметили…
Вокруг них всё были люди кино и эти женщины, которыми они без конца меняются. Это был один из тех ресторанов, куда приходят не затем, чтобы поесть.
— Но чего же вы ждете от жизни, несчастный посол?
— Конца недоразумению.
— Вы делаете слишком много чести смерти…
— Не далее как сегодня утром триста тысяч человек вышли на улицы Рима, требуя зарплаты, на которую можно было бы прожить… Так что мы с вами по сравнению с ними…
— Почему вы никогда не пытались переспать со мной?
— Но я пытаюсь, видит Бог. Я одно это и делаю. Только вот, разменяв шестой десяток, вдруг обнаруживаешь, что есть еще робость.
— Какой же вы все-таки лгун, ваше превосходительство. Вы делаете именно то, что нужно, чтобы не сделать того, что нужно, для того чтобы задеть меня. В вас еще осталось недоверие. Вы говорите себе: «Это ловушка…» И она признает, что это ловушка, и все очень ловко складывается…
Она встала, в голосе ее дрожали слезы.
— Сядьте, успокойтесь.
— Вы забыли добавить: «На нас смотрят…»
— Мне это в высшей степени безразлично.
— Я вовсе не собираюсь кататься здесь по полу и биться в истерике, это было бы слишком реалистично…
Она поднялась, отложила салфетку.
— Еще слово, Эрика, и я сам буду кататься по полу и биться в истерике, только затем, чтобы доказать вам, что я светский человек и умею держать себя с женщинами…
Он уже начал снимать пиджак.
— Нет, прошу вас, — взмолилась Эрика, не на шутку испугавшись, и она удивилась и даже обрадовалась этому вполне искреннему и столь же нормальному испугу, который, оказывается, еще могло внушить ей эксцентрическое, вызывающее поведение. Она всегда старалась не привлекать внимания тех, кто знал ее мать и задавался некоторыми вопросами, которые, естественно, никто и не думал задавать Эрике. Часто в общении с ней они брали этакий доверительный и немного смущенный тон друзей, которые вас очень любят и подозревают некую опасность, страшную угрозу, довлеющую над вами, но о которой не дозволяется упоминать. Были и такие, кого потрясала и смущала ее красота, которую называли «мифологической», хотя подразумевали, и она даже слышала, как произносили шепотом: «Нет, это просто невозможно, такая красота, эти глаза… это что-то не от мира сего…»
Дантес отвел взгляд. А между тем не было иных свидетелей этой сцены, кроме самой ночи и лунного света, разлившегося по паркету серебристой дорожкой, которая вела к озеру. Никаких свидетелей, никого, кто мог бы улыбнуться его уловкам… Был час невидимых творений.
— Что же мне, в самом деле, умолять вас? — бросила она в сердцах. — Если бы вы знали, до какой степени этот родительский, ироничный тон, позволяющий вам держать дистанцию… насколько это бестактно, наконец, в самой своей изысканной манере…
Он задумался. Она почувствовала, что он сейчас улизнет, по-кошачьи ловко и неслышно.
— Эрика, у меня очень сложные отношения с удачей… с новыми возможностями счастья. Мне пятьдесят один год…
Она встала.
— Все. На этот раз я правда ухожу… Вы слышали, что значит обуржуазиться? Это значит считать свои годы, как золотые в своих сундуках… Пятьдесят? Этот аккуратно копившийся небольшой капиталец, который дает вам наконец возможность почувствовать себя защищенным, ограждая от всяких метаний сердца… Так?
Он уже трясся от смеха, взбалтывая вино в своем бокале.
— Я еще не приступал к такой серьезной оценке своей жизни. Садитесь, пожалуйста.
— Мне противен этот разговор, вы, жалкий карьерист. Вы слишком скользкий. Ваш стиль — это искусство скрываться. А стиль — это человек, так, кажется? А у вас — это способ отделаться, табличка, вывешенная на дверь: «Просьба не беспокоить…»
— Что ж, давайте о стиле…
— О, нет!
— Отчего же? Есть люди, которые за это умирают. Не думаю, чтобы существовала какая-нибудь этика, достойная человека, который представлял бы собой не что иное, как воплощенный в жизнь эстетический идеал, ради которого жертвуют и самой жизнью…
Она схватила со стола сумочку и ринулась к выходу, оставляя его наедине с собственным малодушием. Правда была в том, что он не любил ее, но всячески оберегал, потому что ему, видите ли, сказали, что у нее слабые нервы. В тесном лифте, поднимавшемся всего лишь на высоту одного этажа ресторана, — нечто вроде бонбоньерки, обитой шелком, с лифтером, одетым пажом, — она разрыдалась, и это стоило ей трех тысяч лир чаевых — единственный способ выбраться из этой истории с видимостью достоинства.
XXII
Эрика жила в то время в небольшой квартирке на улице Гинмер, напротив Люксембургского сада. Она на целую неделю заперлась у себя, позвонив перед тем матери, чтобы узнать, все ли в порядке. Все было в порядке. Ma была на седьмом небе. Она обнаружила где-то на улице Ла Боэси игорный клуб, который открылся совсем недавно и где ее хорошо приняли, несмотря на присутствие двух смотрителей, которые знали ее еще по Довилю, но они закрывали перед ней двери на протяжении столь долгих лет, что в конце концов сделались ее друзьями. Игроки все время толпились вокруг ее кресла на колесиках и ставили на те же числа, что и она, из тех соображений, что такому несчастному человеку непременно должно было повезти.


























