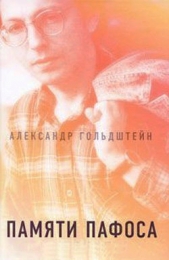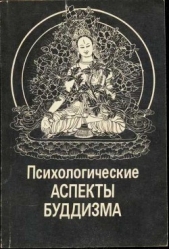Аспекты духовного брака

Аспекты духовного брака читать книгу онлайн
Новая книга известного эссеиста, критика, прозаика Александра Гольдштейна (премия Антибукер за книгу «Расставание с Нарциссом», НЛО, 1997) — захватывающее повествование, причудливо сочетающее мастерски написанные картины современной жизни, исповедальные, нередко шокирующие подробности из жизни автора и глубокие философские размышления о культуре и искусстве. Среди героев этого своеобразного интеллектуального романа — Юкио Мисима, Милан Кундера, рабби Нахман, Леонид Добычин, Че Гевара, Яков Голосовкер, Махатма Ганди, Саша Соколов и другие.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Словно безземельные крестьяне, скитающиеся в поисках лапотной справедливости и неподлого пропитания, мы отдали много сил переселенчеству и сладили с ним плохо. Мы по-разному маемся врозь, так далеко друг от друга, что забываются лица, нетелефонные голоса, и ум цепенеет, готовый увидеть в разброде написанную на роду неизбежность. А предустановленность лжет, я по-старому считаю, что правильно жить в радиусе рукопожатия, в радиусе общего дела, когда-то оно было у нас. Не подумайте, будто я зову вас назад, в города, ассоциирующиеся для вас с унижением, а впрочем, зову, потому что вы испробовали все, за исключением возвращения, его время настало. Искуситель я никудышный, но где один пребывает в унынии, там трое сообразят на троих — только сейчас мне открылось нравственное значение идиомы, зовущей к совместным на русском поприще действиям. Русское поприще не бывает иным, русско-еврейское тоже, вам ли не знать того, братья, и я умолкаю, чтобы не загрязнять многословием призыв к воссоединению духовной семьи, уставшей от бесплодностей разобщения.
Необходимость изучения
Кундеру нужно изучать, это интересный случай соответствия духу эпохи и преодоления участи, которая была отведена ему как провинциалу. Отрезанный от большого мира чешским языком и недостатком политической свободы в стране, он зарекомендовал себя чародеем усвоения всеевропейских схем мастерства и сумел добиться славы, этой, по его словам, большой зоны бессмертия, а слава его такова, что мальчик, живущий на далеком острове в океане, пишет в редакцию журнала, чтобы ему рассказали, как стать новым Кундерой.
В первые десятилетия прошлого века на территориях немецкого языка появился интеллектуальный, или философский, роман — форма, напророченная смешанными повествованиями Просвещения и генетически связанная с теориями и литературными синтезами романтизма (Кундера относит себя к этой линии). Сначала нестрогим термином «интеллектуальный роман», возникшим для обозначения шпенг-леровского «Заката Европы», именовали небеллетристические виды высказывания, однако затем присмотрелись и к синхронным этой рапсодической эссеистике художественным способам повествования. В системе этого жанра, чью экспансию испытали самые разные области мысли, были проанализированы феномены, дотоле сюжетному слову почти вовсе не ведомые. Фельетонная эпоха, Нерациоидное, Мифология полдневно-полуночных странствий, смутные объекты желаний Толпы, последний праздник Империи и кровосмесительная утопия Острова, горящая Библиотека, альпийское постоянство Курортного грота, в котором простец вырастает в Тангейзе-ра, Кастальский Заповедник Эстетического в его отношениях с (псевдо)реальностью внешнего мира — эти эмблемы оттуда, из философского романа первой части столетия, с его горнего кладбища, где упокоились смыслы.
Философский роман был элитарным искусством. Культура модерна отличалась патриархальной надменностью, свято блюла иерархии и не догадывалась, что оппозиция высокого низкому будет отменена. Невдомек ей оставалось и то, что искусству придется воспитать в себе двойную мораль, умение одновременно потакать партеру и галерке. Основание для аристократической спеси литературы избранных было непридуманным. Базисом самой возможности того, что определенный тип рассуждения мог быть квалифицирован в качестве избранного, служило неопровержимое присутствие на европейском континенте Истории, которая, реализуясь в событиях, исполненных трагедийного значения, и создавала всепроникающую иерархичность — История, то есть Трагедия, играется на подмостках иерархического мира, в этих спектаклях герои отделены от хора, даже если их ждет единый финал. Но сегодня, пишет Кундера, повторяя расхожее мнение, «мировая история с ее революциями, утопией, надеждой и отчаянием покинула Европу, оставив по себе одну грусть». События исчезают, падают разделительные заграждения, философский роман модернизма давно уж сменился европейским постмодернистским бестселлером, детищем позднего капитализма, развитой демократии. Утверждая, что ими ликвидировано краеугольное противоречие между высоким и низким, авторы новых книг лезут из кожи вон, чтобы собрать максимальное количество голосов. Романтизм, по словам Валери, это когда плохо пишут; постмодернизм — это когда хотят нравиться всем. Дело не в корыстолюбии (писатель и человек не стали корыстолюбивей), но в принципиально иной общекультурной и эстетической установке, согласно которой деньги, слава, успех — важнейшие компоненты поэтики произведения, а также доказательство фундаментальной состоятельности художника, умеющего правильно обращаться и с литературными текстами, и с большими социальными механизмами. Роман, не сподобившийся рекламно-коммерческого резонанса, с этой точки зрения неудачен, маломощен и как феномен искусства, что означает его неумение вступить в диалог с определяющими инстанциями общества, завладеть их вниманием, убедить их в необходимости своего появления, в необходимости быть ими купленным. Модернизм не был либеральной философией, не был либеральным искусством, постмодернизм либерален всецело и готов к беспощадной борьбе за свои демократические идеалы. Одним из следствий этой борьбы на уничтожение «конкурирующих парадигм» стала выработка международного языка повествовательных форм, наделенного статусом обязательности, — отныне каждый, кто собирается проявить себя на ниве интеллектуальной литературы, должен применяться к европейскому бестселлерному канону (американский канон имеет свои отличия, но типологически сходную структуру). Неспособному к этой учебе никогда не добиться почета, он несет в себе скверну, его сторонятся, как Средневековье прокаженных и Ренессанс душевнобольных. Представим, что чувствовал Кундера: местная слава достигнута, мировой не видать, и он попусту надеется на бессмертие, сознавая свои незаурядные силы, готовность научиться всему, что потребует от нега дух современности.
Оккупация выдалась началом освобождения, эротическим хеппенингом, намекнувшим на какое-то будущее. На Праге сосредоточились взоры планеты, чешское бедствие стало товаром, но бензобаки вражеских танков не были заправлены обещанием грандиозного личного процветания, о котором мечталось Милану Кундере, ибо предприятие могло быть решено лишь непосредственным, персональным вторжением в международный литературный язык европейских столиц. А он жил вдали и вместо универсального языка вынужденно вчитывался в заштатную чешскую речь, малопонятную и во французских переводах. Этот унаследованный недуг долго сидел в нем, но с какого-то момента он уже не стеснялся о том говорить, как больной, победивший болезнь. В «Бессмертии» есть острая сценка: молодая чешка, обучавшаяся в Париже у Лакана, возвращается домой, находит свой маленький городок захваченным русской армией и устраивает для женщин полуконспиративный семинар психоанализа, где томящиеся особы раздеваются догола и слушают, не понимая ни слова, лекции о стадии зеркала. Парижский жаргон не ложится в славянскую речь, языки рассогласованы, и даже если бы Кундера все с себя снял, его бы заметила и оценила только советская комендатура.
Он не хотел раздеваться. Эмигрировал, выдержал стиль на огне и наконец вошел в европейское литературное тело, как выяснилось, мягкое, податливое. И освоил международный язык совершеннее тех, кому он был дан по праву рождения. Не исключено, что этим редчайшим даром награждаются не добродетель и праведная жизнь (что было бы давно осужденным пеллагианством), возможно, его обретают только верой, сумасшедшей верой в успех. Одержимый желанием быть универсальным европейским писателем, Кундера безукоризненно сдал все экзамены и даже избавился от преувеличенной точности произношения, свойственной иностранцам. Так крещеный еврей Роман из Берита-Бейрута постучался в двери Восточного Рима, и его, Сладкопевца, кондаки полторы тысячи лет поют по церквам. Европейские интеллектуальные бестселлеры Кундеры чудно облегчены по сравнению с источниками его вдохновения. Они умудренны, скептичны, разочарованны. Глубоко человечны, дабы читатель понял, что хоть история ушла с континента, но личные драмы остались. В меру ученые книги, европейские донельзя, до окраинной Тулы, до назойливого цитирования хрестоматийных имен, до нежелания после конца света погостить в Праге, до перехода на французскую речь. Он повторяет многочисленные клише расхожего разума и полагает, что пишет в традициях философской прозы, клянется Музилем и предусмотрительно, чтобы выбить оружие у завистников, иронизирует над своей привязанностью: «Нет романиста, который был бы мне дороже Роберта Музиля. Он умер однажды утром, когда поднимал гантели. Я и сам теперь, поднимая их, с тревогой слежу за биением сердца и страшусь смерти, поскольку умереть с гантелями в руках, как умер боготворимый мною писатель, было бы эпигонством столь невероятным, столь неистовым, столь фанатичным, что вмиг обеспечило бы мне смешное бессмертие». Эпигонство автору не грозит. Настоящий эпигон Музиля работал бы с безоглядностью своего кумира, не присматриваясь к интеллигентной толпе, рассчитывая на самоценные качества слова и мысли. Просто ему как эпигону не хватило бы ни таланта, ни мощи.