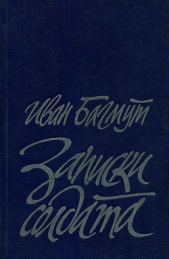Записки лимитчика

Записки лимитчика читать книгу онлайн
В книгу челябинского писателя вошли повести и рассказы, в которых исследуются характеры людей, противостоящих произволу, социальной несправедливости. Активный социальный пафос автора убеждает в том, что всякое умолчание о социальных бедах — то же зло. Книга утверждает образ человека, открытого миру и людям, их страстям и надеждам.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Мамочка, тут из «Берлина», из «Праги»! Ты сделаешь преступление, если не поешь!.. Паля, сейчас же возьми апельсин! Надо ему помочь очистить апельсин... Владимир Иванович, я вас оставляю. С вами мы что-нибудь придумаем. Пока еще время терпит — не так ли?
Это он — о нашем разговоре в углу. Он был почти всесилен — Валентин Павлович; но я ему не очень верил.
Итак, Анна Николаевна — на свежих простынях; на столе — закуски в свертках. Вот обрамление этой ночи! Паля, для которого я отделял дольки апельсина, пытался рассказать, что в эту пору дают в Кащенке. Имелось в виду: дают на ужин. Из нечленораздельного, косного получалась, кажется, овсянка. Паля конфузился — большеголовый, странно похожий на брата.
— Но это было вкусно? — спрашивал я.
— Вкусно, — отзывался он глухо, как из подвала. — И еще давали компот.
— Вот видишь!
А что «вот видишь»?
Как бы то ни было, но неудачником в эту ночь, я себя не считал. Я был лимитчик, но не чужой, нет, а причастный всему! И мне казалось, когда я вглядывался в окна и видел свое отражение: вокруг меня собирается нынче Москва, какую я знал по истории и какую представлял себе прежде, и эта новая Москва, которую узнал за прошедший неполный год. Огни за окнами, висящая над столом лампа с шелковым абажуром, полным, как мне казалось, ободряющей радости... И все люди, все судьбы — порой самые несуразные!
Вспоминал... И снова восходило солнце вчерашнего дня, но теперь оно было ночным, призрачным. И призрачною представлялась Москва. В ней, в этой Москве, мой Ванчик причислял себя к детям Ивана Грозного, воображение не знало предела, бывшая жена моя сидела в гвоздевской комнате и смотрела мне же в лицо, и я был на детском стульчике перед ней чем-то унижен — может быть, мой страстью. Люди, знакомые и незнакомые, страдали, любили, жизнь некоторых подходила к концу. Старик, который называл себя Йедо, у себя в комнате слепо уставился в ту сторону, где все еще жила курсистка, невеста мертвеца, чужая жена, а потом вдова, — ей он посвятил свою жизнь.
«Я начинаю верить в приметы не менее Сары Бернар и боюсь повторять мое приглашение: уж если мне очень хочется кого-нибудь увидеть, счастье мне изменяет...»
А мужчина с темным, в глубине такси, лицом летел уже за Белорусским вокзалом, стремясь успеть к урочному часу на Беговую аллею, где неподалеку в стойлах темнели и чутко прядали ушами кони самых драгоценных и чистых кровей.
— Паля! — говорила между тем Анна Николаевна. — Милый Паля! Тебе не скучно, мальчик? Возьми яблочко.
— Анна Николаевна, — подходил я к ней, — Новый год! Вы же Санина — сама история!.. Как же Новый год без вас? Что будем делать?
— Новый... — смотрела на меня недоуменно, словно возвращаясь из другого мира. — Вы озорник! Пусть он будет без истории! А я разрушилась... Бездарная старуха! Диабетчица.
От нее осталось вот что: а м п о ш е. Класть в карман. Выражалась по-французски. Как всю жизнь не могла без французского прононса и картавости произнести слова «шофер». «Шоф-фё-ор», — выговаривала она загадочно. А м п о ш е витало над сценой последнего объяснения с тем же Валентином Павловичем Лопуховым, когда сама Анна Николаевна лежала в больнице водников в предсмертном забытьи и ничего не могла бы изменить. Оно, это а м п о ш е, имело вид гадкий и улыбалось мне злорадно.
Часы в столовой начали бить так громко, словно они волновались. С последним звучным ударом я, не выдержав минуты, бросился в чем был на улицу. Мне вдруг сделалось необходимым — что же? — обонять, осязать... И эту, такую странную для меня, ночь, и Москву. Я выбежал на середину переулка и замер. Город! Он был загадочно-прекрасен и чист под свежим легким снежком; он одновременно темнел и белел, затаенно сиял. Откуда-то долетали слабые возгласы, от дома артистов шел музыкальный раскат. И какое-то движение чувствовалось, хотя — никого и нигде. Я тут же понял: облачное небо отражало свет, его становилось все больше — вверху и внизу розовело, ширилось. Ветра не ощущал ни малейшего, но уже вблизи телефонной будки, разметав снежный прах, один, давно сухой, сморщенный лист гонялся за другим, как будто хотел спросить: где моя молодость?..
Юрьев день. В больнице водников
Тетя Наташа, словно решив наконец про себя, сказала третьего дня:
— Юрка был хороший — такой же хороший, как и ты!...
А я-то думал!.. Юрка. Но думать о нем было неприятно.
После истории с пропавшими туфлями видел его однажды, даже говорил. Вернее, со мной говорили. Фигура эта поразила меня тогда же — и не зря. Это, как я думаю теперь, был новый человек, неизвестной прежде породы. Его спрашивали по лопуховскому телефону, голос осторожничал — с чудовищным акцентом. Сказал Валентину Павловичу.
— Юру? Он должен быть во Вьетнаме...
И уносясь куда-то — к себе в министерство, в институт на лекции, к черту в пасть, — крикнул с лестницы:
— МГИМО!
Как будто это слово все объясняло.
Но пора уже рассказать о нашей встрече. Некоторое время не хотел ничего знать о семье Валентина Павловича — той, что на Беговой аллее. К чему? Валентина Павловича хватало. К тому же, благополучие и, как следствие, эгоизм, который чуялся на расстоянии, нежелание сострадать кому бы то ни было, — меня не привлекали. Хотя это и противоречило моей программе: все понять, пропустить через себя... Знал, что иногда приезжала к бабушке хвалимая ею дочь Лопухова — одна или с мужем. Оба, если не ошибаюсь, тогда были студентами. Ее не видел ни разу. Зятя видел — он бывал на ипподроме, среди приспешников Валентина Павловича. Увиделось вот что: выше среднего роста, ничего запоминающегося, кроме безволия. Оно, безволие, смотрело пустыми глазами, светлыми, носило хороший костюм.
И оно же позвало меня в дальнюю комнату, когда я пришел, как обычно отперев входную дверь доверенным мне ключом:
— Мы вас ждем!
Зять был оживлен и нервничал, но за оживлением, необычным для него, и лихорадкой движений чудилась чужая воля. Непонятно — чья? Повел меня через столовую скорым шагом — сопровождая, едва не подталкивая.
Тот, кого называли Юркой. Сидел перед столом, который когда-то был письменным, на вертящемся рояльном табурете, полуобернувшись ко мне. Табурет, я знал, интересен тем, что не имел одной — и необходимой — точки опоры и, следовательно, с него легко можно было слететь. Стоило только забыться. Первое впечатление: он, то есть Юрка, а не табурет, напоминал Москвича. Того давнего, так и не выросшего... Этот — вырос. И, если употребить словцо ипподромное, хорош был «по всем статям»... К тому же, помнилась, звенела в ушах лопуховская присказка: Юрка ленинградский, родословная питерская; в истории семьи — гонения, сиротство, чужие углы. И я искал эти чужие углы в лице и фигуре сидевшего передо мной человека.
Он же смотрел на меня снисходительно, понимающе, как смотрят такие люди на ненароком презираемого собрата. Потом-то я понял: я был для него всего лишь наивный, всеми осмеянный «друг человечества»! Хотя это меня не могло унизить.
Полумрак, или намеренно обставленный разговор в духе полумрака; бутылка дорогого «Абрау-Дюрсо» почата, и мне кажется в эти минуты, что она переглядывается с двумя причастными...
— Вам надо объясниться. Неужели вы не поняли до сих пор? — звучит его голос — Как-то странно здесь появились... продолжаете бывать. Чего вы хотите? Ну, прямо!..
Так вот чем здесь угощают! Нет, это не «Абрау-Дюрсо».
— Чего я хочу? — переспросил, ожесточение запевало свою песню. — Я ничего не хочу, кроме справедливости.
Сидевший дернулся; он недоверчиво улыбался.
— Вы беспокоитесь... Чем же вы обеспокоены? Анна Николаевна была одна — вам ли не знать об этом! Она была беспомощна, просила прийти. И, когда никто из родных глаз не казал — все скрылись, — разве не справедливо, что пришел я? Потом, вы знаете, привезли Палю...
Упоминание домашнего имени — Паля! — раззадорило их. Задвигались, крикнули: