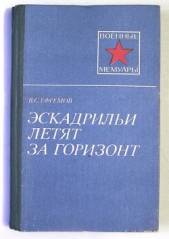Бар эскадрильи

Бар эскадрильи читать книгу онлайн
Произведения современного французского писателя Франсуа Нурисье (род. в 1927 г.), представленные в сборнике, посвящены взаимоотношениям людей.
Роман «Праздник отцов» написан в форме страстного монолога писателя Н., который за годы чисто формальных отношений с сыном потерял его любовь и доверие.
В центре повествования романа «Бар эскадрильи», впервые публикуемого на русском языке, — жизнь писателя Жоса Форнеро. Сможет ли он сохранить порядочность в обществе, где преобладают понятия престижа и власти?
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Едва приехав в этот дом, полный показной роскоши, я разделась и пошла совершенно спокойно, без всякого кокетства, не пытаясь как-то защитить себя, к бассейну — замечательному бассейну, возвышающемуся над морем, — возле которого меня ждали расслабленные и, наверное, насмешливые гости Леонелли. Фред шел в двух шагах позади меня, такой красивый, и я знала, что невидимые за черными очками взгляды детально изучают его стройность и мою худобу, его загар и мои веснушки, шелк его и рыхлую структуру моей кожи, его удлиненные мускулы и мои торчащие кости. Я заставила себя идти к ним, идти выпрямившись во весь рост, без накидки, без пеньюара или какого-нибудь пляжного платья, без какого бы то ни было из тех воздушных и жалких аксессуаров, за которыми женщины скрываются, одновременно выставляя себя напоказ, рисуясь и провоцируя. Я шла к ним, — к небрежности красавицы Патрисии, к шестнадцати годам Бьянки Леонелли, к намазанному маслом и размассированному совершенству итальянки, к роскошным плечам Джетульо — шла со своими морщинами, со своим большим носом, сгоревшей кожей, вся гордая собой, настроенная лицом к лицу встретить злорадную насмешливость, зазвучавшую в приветственных криках. Я, конечно, все прекрасно понимаю. Но я навяжу им свою безмятежность. Навяжу им Фреда. Навяжу им образ зрелости и образ женщины, которую ничто, несмотря на их нравы и все их разговоры, вроде бы не позволяет им принять в свой круг. И я тут же поняла, что эта первая битва — битва обнаженного тела в ярком полуденном свете — мною выиграна.
Сейчас уже вечер, и я могу снять охрану. (Сколько еще времени будем мы заимствовать метафоры из мужской мифологии?) Я долго разговаривала с Колетт Леонелли в ее комнате. Она продемонстрировала мягкий цинизм, разочарование, буржуазную скромность монастырской воспитанницы. Ее глаза не изменились, такие же темные и будто трепещущие. В ее комнате такой беспорядок, что против моей воли воскрешает у меня в голове массу сальных грустных анекдотов. Она говорит со мной о «Стремительных женщинах» с выверенной деликатностью, на которую я никак не считала ее способной. Она задумчиво пьет медленными глотками, и ее голос мало-помалу становится глухим. Фред спустился к морю искупаться.
Сколько Леонелли лет? Сорок три. На пятнадцать моложе меня. В это трудно поверить. Если ее тело осталось гибким, почти таким же худым, как у меня, то на лицо жалко смотреть. Глаза горят на нем как укор. Алкоголь? Болезнь? Во всяком случае потакание всему доступному, что вредит женщине сильнее, чем любой порок.
Постоянная комедия, которая разыгрывается в этом доме, напоминает вариации на турецкие темы: султаны пера или султаны бизнеса и одалиски, которые прихорашиваются для них. Как Колетт выносит эту гаремную испарину? Том-и-Левис играют здесь роль евнухов. Я ни разу не почувствовала того напряжения, которое свидетельствует о подспудной жизни, о приглушенных страстях. Все тонет в благодушии алкоголя и юмора. «Все плывет», по прекрасному выражению Бьянки, которое не поймут уже через пять лет.
Издали Бьянка кажется самым интересным животным в зверинце Леонелли. Материнские глаза и безусловно унаследованные от отца, блондинистая грива волос и невозмутимая, угловатая красота. Отец? Право, не знаю, который из мужей Колетт. И уж никто не станет утверждать, что в жилах малышки течет кровь человека, чье имя она носит.
Ни один из моих сыновей никогда не приводил ко мне в дом девушку, равную по своим качествам Бьянке. В ней есть острота и нежность, огонь и сдержанность. Мне удается остаться с ней наедине. Я всегда была более чувствительна к красоте очень молоденьких женщин, чем к красоте мужчин. Тем не менее, Фред! Но эти последние годы я так боялась скатиться по этому склону, такому соблазнительному, такому удобному, когда выбиваешься из сил, что мне надо было зацепиться за кого-то, за какой-нибудь образ. А Фред, разве он не красив как картинка? Он та зацепка, которая удерживает меня рядом с мужчинами. Даже Бенуа это понял. Он улыбается, откашливается. Он закрывает двери, заботясь, чтобы они не хлопали. Он написал Колетт чудесное письмо, чтобы отклонить приглашение, которое она ему не делала. Бывают вечера, когда, вернувшись домой и найдя его пустым, я ловлю себя на том, что ненавижу собственную жизнь. Я скрываюсь на своем чердаке, который пахнет остывшим дымом, остывшей страстью. Страницы, оставленные накануне на столе, пожелтели за один день. Я перечитываю два или три абзаца наугад: слова вялые, фразы растянуты, мысль топчется на одном месте. Из этой кучи, из четырехсот правленных и переправленных листов надо будет извлечь полемику, очарование, деньги. У Фреда пухлые губы, как будто нарисованные каким-то богом. Я звоню своим сыновьям, но телефонные аппараты трезвонят в пустых квартирах. Почему моих сыновей никогда не бывает дома, когда я им звоню? Или я ошибалась номером? Вот уже год, как моя память рассыхается. Имена, цитаты, адреса тают в каком-то неясном шуме. Я чувствую нечто живое на кончике языка, но у меня не получается это сформулировать. Пятнадцать лет назад, когда я написала мои первые новеллы, я изливала в них свое избыточное изобилие, я упивалась потоками слов: я испещряла ими листы и раскладывала их везде вокруг себя. Никогда, даже в двадцать лет, я не испытывала подобного ощущения необъятных возможностей выбора. Сегодня же я пишу только спрятавшись за оборонными сооружениями, воздвигнутыми из словарей, моих старых спутников. Я могу провести три дня без Фреда; я даже вижу в этом отсутствии некую передышку; а вот если я забуду положить в машину словарь, свой «Малый Робер» (я кладу его незаметно в полотняную сумку из страха, что меня поднимут на смех…), то начинаю сходить с ума. На Троицу я заставила открыть в восемь часов вечера в субботу книжный магазин в Довиле, выкрикивая свое имя… Люди на тротуаре стояли и смотрели на меня.
Бьянка не страдает ни одним из комплексов, свойственных ее возрасту. Единственное, что выдает ее шестнадцать лет, так это ее речь. Но речь не такая уж серьезная вещь. Гораздо серьезнее тело. Ее тело, длинное и гладкое, окружает ее защитным ореолом. Она живет во сне, в чувственной оболочке сна. Читала ли она мои книги? Наверняка нет. Колетт мне призналась: она не уверена, что ее дочь хотя бы пролистала романы своего дяди и, разумеется, своей матери. А чтобы еще мои! Хотя бывают дни (те самые, когда чердак оказывается пропитанным запахом полной пепельницы), когда я пишу только для того, чтобы быть прочитанной в будущем такими девчонками как Бьянка; чтобы помешать им стать куклами; чтобы подарить им радостный взгляд, закаленное и сильное сердце, которое годы дарят лучшим из них, но чтобы дать им все это немедленно, уберечь их от унижений, от иссушающего душу терпения.
— Вы хорошо знаете друзей моей матери?
— Каких именно?
— О, не итальянцев! И не Тома-и-Левиса, это ангелы. А вот Шабеев, например.
— Знаешь, в этом маленьком мирке мы все друг друга знаем. В общем, более или менее. Шабеев скорее менее.
— Я слушала вас, вы много говорите об «этом маленьком мирке», как вы его называете, или о «среде». Шабей тоже. А вот мама никогда об этом не говорит, почему?
Разговор иссякал несколько раз, как источники, обнаруженные в горах, которые дают воду с перебоями.
— А тебе, этот «маленький мирок»…
— Это не мое дело. Я понимаю, что говорят о книгах, но все это…
— А ты читала книги своей матери? Книги Жиля?
— Ну да, естественно.
Это было сказано безапелляционным тоном. К тому же скорее всего это была правда. Если не считать каких-то случаев соучастия, Колетт никогда не уделяла чересчур много внимания Бьянке. Патрисии Шабей, которая однажды заметила: «Прямолинейность нашей дочки нас пугает. Антигона в доме — это так утомительно…», Колетт ответила: «Бьянка как-то умеет попасть в струю. Ты понимаешь, что я хочу сказать? Одновременно и искушенная, и хитрая. Мне это нравится. Но я себя спрашиваю, где она этому научилась…»
У меня в голове крутятся кое-какие вопросы, но это литературное любопытство, а не житейское. Задай я их Бьянке, они бы просто упали между нами, книжные, мертвые. (Постоянные вечера с ароматом старых сигарет…) Я должна была бы заставить ее говорить о себе, они любят только это. Меня останавливает или осторожность, или неловкость. Испытало ли это волнующее тело пожар любви? Только что Фред и Бьянка болтали под нацеленными на них взглядами черных очков. Самые красивые среди нас — единственно красивые. Даже Том-и-Левис вдруг показались рядом с ними перезрелыми фруктами. Я слышала, как сильно бьется мое сердце, — так сильно, что все остальные должны были видеть его удары под моими ребрами, на моей голой груди. Я завернулась в полотенце, как если бы солнце было слишком сильным, но этот жест был моим первым поражением, я знала это. Впрочем, он успокоил остальных: бабулька струсила. Я словно услышала их удовлетворенный вздох. После чего все были очень милы со мной.