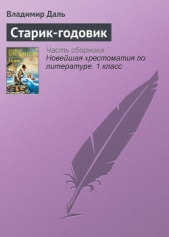Лазалки

Лазалки читать книгу онлайн
Новая книга талантливой писательницы Ульи Новы поможет вернуться в страну детства и вновь пережить ощущение необъятности мира, заключенного, быть может, в границы одного микрорайона или двора с детской площадкой и неизменно скрипучими ржавыми качелями… И тогда город тревог, овеянный бесцветными больничными ветрами, превращается в город лазалок, где можно коснуться ладошкой неба, где серебряный ветер пропеллеров насвистывает в губные гармошки входных дверей, где живут свобода и вдохновение, помогающие все преодолеть и все победить…
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
«После того как твой дед слег со вторым инфарктом, я отнесла в комиссионку новое пальто, ковер, патефон, пластинки, но денег не хватало, надо было как-то сводить концы с концами. Чтобы не думать о будущем, я стала шить», – объясняет бабушка. Нетрудно представить, как она решительно ставила швейную машинку на кухонный стол и строчила до глубокой ночи легкие летние платья, с порхающими оборками, рукавами-фонариками и тесемками поясков. Расстелив на ковре синий сатин в мелкий цветочек, она сосредоточенно кроила алюминиевым тазом беспечные юбки-солнца для буфетчиц, контролеров автобуса и бухгалтерш городка. Бабушка самозабвенно шила из крепдешина, креп-жоржета, сатина, кримплена, поплина. Она надеялась, что если каждый вечер строчить на машинке, то беды, забывшись, начнут сдаваться и уступать. Так оно и происходило. Дед шел на поправку. Тогда бабушка, выдохнув с облегчением, кроила веселые летние костюмчики: юбка и жилет на синих граненых пуговках для соседок, служащих сберкасс и буфетчиц школьных столовых. Она забывалась за работой, не успевая всхлипывать и превращаться в унылую жену инвалида, участника войны, не дошедшего до Берлина из-за ранения и контузии. Она наметывала белыми нитками подолы платьев. Кропотливо, малюсенькими стежками подшивала боковые швы. За работу ей дарили отрезы тканей, которые ждали своего часа внутри шифоньера, в большой коробке, обложенные нафталином и полынью от моли. И однажды она превращала какой-нибудь из этих отрезов в платье. А сама ни капельки не менялась.
Как-то дед подумал, что раз бабушка строчит на машинке практически каждый вечер, спасаясь от птицы тревоги и всяких горьких превращений, раз она проводит много часов, наметывая белыми нитками, аккуратно строча, надо, чтобы ей было удобно. Чтобы все необходимое для шитья было под рукой. Дед ходил туда-сюда по комнате с огрызком карандаша за ухом. Обмерял машинку, складывал метр гармошкой, выстукивал об ладонь, пел военные песни. А бабушка ворчала: «Не шуми. Лучше иди, отдохни». Из-за ворчания и недоверия дед заводился, не обращал внимания на упреки и строгие взгляды, упрямо переносил с балкона на кухню посеревшие куски фанеры. Потом доставал с антресолей баночки от мармеладных долек, набитые ржавыми загогулинами, проволочками и железками, найденными по всему городу. Бабушка внимательно наблюдала за его перемещениями поверх очков, бормоча: «Не сори», – и давала понять, что не ждет от его затеи ничего хорошего. Потом она бросала на линолеум в коридоре половую тряпку, командовала вытирать тапки, чтобы не разносить мусор по квартире, а то кто зайдет, от людей неудобно. Дед ласково отвечал: «Есть, товарищ начальник», – и продолжал таскать на кухню большие свитки наждачной бумаги, доски, реечки, алюминиевые уголки.
Тогда бабушка затихла и сосредоточенно штопала, втыкая почерневшую толстую иглу в носок, нанося новые и новые царапины деревянному грибу. Ее недоверие и равнодушие возмущали деда, он терял покой и бросался в атаку, таскал с балкона стопки фанерок, какие-то коробки и бруски. Потом неохотно и сбивчиво на кухне хрумала тупая ножовка, не поддаваясь на тихое подбадривание: «Давай, милая, не дури, еще три досочки, и отдохнем». Ближе к вечеру комнаты наполнились опилками, пылью, запахом керосина и светом, похожим на талый снег. Наконец, решительно вколов толстую штопальную иглу в очередной носок, бабушка вторглась в кухню и заунывно предложила: «Сворачивал бы ты эту пустяковину. Давай обедать». Она отчасти догадывалась, что недоверие, ворчание и в особенности роковое слово «пустяковина» необходимы. Они наполняют деда возмущением, лишают покоя, заставляют яростно пилить, чиркать фанерку огрызком простого карандаша. И дед с головой погружался в работу. Именно этого и добивалась бабушка, ей хотелось, чтобы он увлекся, резал, пилил, сновал по дому. Забывая дни, превращенные в серо-голубые больничные палаты с выгоревшими ситцевыми шторками, заслоняющими небо.
Карандаши ломались, рубанок кромсал, стамеска соскальзывала, молоток попадал по пальцу. Но тем не менее, отдельные доски, алюминиевые уголки, куски фанеры складывались, сбивались «гвоздочками», пока, наконец, черная швейная машинка не была встроена в фанерную тумбочку. Бабушка заглянула внутрь и пробормотала: «Какая прелесть!» Это и было высшей наградой, медалью за отвагу, ради которой дед сражался все это время с тупой пилой и ржавыми гнутыми гвоздями.
С тех пор, занявшись шитьем, можно было ненадолго уединиться, посидеть ко всем спиной. В низенькую дверку дед встроил три раскрывающихся веером фанерных ящика, чтобы разложить все мелочи, каждую – на свое место. Но в машинке всегда воцарялся беспорядок: катушки и ножницы менялись местами, нитки перепутывались, завязывались в узлы. Ленты и половинки молний переплетались и скручивались. Все это было необходимо. Потому что, когда дед снова оказывался в больнице, невозможно было одновременно раздумывать, поставили ли ему сегодня на ночь капельницу, и распутывать скрутившиеся в клубок обрывки пожелтевших кружев и бесхозные, растрепавшиеся на кончиках шнурки.
В самом верхнем ящичке, на расшатанных стержнях проживали катушки. Здесь заведовали две тучные бобины-бабины, черная и белая. Утыканные толстыми почерневшими иглами, они казались продавщицами колбас или служащими сберкассы. На их фоне терялись худенькие катушки разноцветных ниток, намотанных на коричневые картонные трубочки. Некоторые из них в самый неподходящий момент начинали мешаться под руками, падали на пол, вывихивая шаткий, облитый коричневым лаком стержень. Они катились, заставляя бабушку бросаться вдогонку, шарить под шкафом, протягивать руку, отвлекая ее от нарастающего беспокойства.
Защитив кривоватый указательный палец латунным наперстком, вооружившись очками, вдев с пятого раза в большую иглу белую нить, она начинала терпеливо рыться в ящичках. Сначала молча. Потом, обозлившись, поругивала беспорядок. Говорила: «Безобразие!» Обвиняла меня и деда в том, что мы сюда лазали, что после нас все «комом». И в этот момент она начисто забывала, что дед сейчас спит в темной палате, окно которой занавешено бледной ситцевой шторкой.
Был уже поздний вечер, звуки за окном смолкали, даже ветер, утомившись наигрывать в губную гармошку двери, улетал куда-то наверх и отлеживался на черной-пречерной лестничной клетке, возле квартиры Гали Песни. В тишине, крошечными стежками бабушка пришивала на уголки белья метки – небольшие ленточки с номерами, чтобы наволочка или пододеяльник не перепутались и не потерялись в ворохе чужих, принесенных со всех концов города. Потом она искала в ящичках ножницы. И где-то среди разрозненных молний, катушек, прорезиненных сантиметровых лент оставалась ее грусть, ее воспоминания, горечь от дней, превращенных в засушенные букеты зверобоя, в ватки с ржавыми точечками крови после укола. Ближе к полуночи бабушка поднималась с табуретки, немного рассеянная и успокоенная. Мы складывали простыни, пододеяльники, наволочки в большую красную сумку. Вечер оставался позади. Птица тревоги, так и не вырвавшись наружу, рассеивалась. И пронзительный звонок из больницы не вторгался в трепещущую, жужжащую тишину квартиры.
Утро обжигает холодком, черным вздохом подвала, бело-голубым ветром. Бабушка марширует чуть впереди, сжимая мою руку в своей – теплой и волевой. Она умело направляет, подтягивает и рулит, готовая к тому, что, замечтавшись, я решу пройтись по луже. Побегу за голубями. Или не замечу несущихся навстречу мальчишек на велосипедах. Бабушка легонько одергивает, шепча: «Хватит витать в облаках!» От этих волшебных слов, как самолет, выполнивший экстренную посадку на незнакомом поле, тут же превращаешься в тихую и послушную девочку, на весь оставшийся день. Раздумывать и засматриваться по сторонам некогда. Искать по кромке асфальта шарик – бесполезно. Потому что дорога в прачечную – это быстрая, целеустремленная прогулка сдавать белье, аккуратно уложенное в красную сумку. И получать взамен тяжелую связку упакованных в оберточную бумагу простыней, пододеяльников и наволочек, накрахмаленных и пропитанных едва уловимой цветочной отдушкой. Со стороны это напоминает торжественный поход «в город», на люди, принаряженной бабушки с внучкой. По пути возле каждого подъезда встречаются знакомые – бывшие больные из отделения, где царит бабушка, где она работает целыми днями и часто – по ночам. При встрече надо обязательно улыбнуться. Вкрадчиво и вежливо выдавить: «Здравствуйте», а не «здрасьте». Отвечать на вопросы надо громко, не глазея по сторонам, не плавая желтым березовым листочком на поверхности лужи, глядя в глаза, радуясь и оживляясь. И ни в коем случае не стоит засматриваться на сочный клочок неба, что отражается в пыльных, замутненных окнах тесного трикотажного магазинчика. А если вдруг сделаешь что-нибудь не так: забудешь поздороваться, отвернешься в сторону, заскучаешь, не расслышишь вопроса, весь оставшийся путь в прачечную придется выслушивать бабушкины нравоучения. Потому что жизнь – очень сложная штука, и ее надо уметь прожить. И все начинается с того, что в нужный момент ты улыбаешься, как радиоприемник прибавляешь громкость, говоришь «здравствуйте». И бойко отвечаешь на вопросы. Тогда добрые люди вокруг не решат, что ты похожа на своего деда, чудаковатого старичка с палкой-клюшкой, который шаркает по городу и собирает под кустами гаечки, мотки проволоки, ключики и железяки. А непременно надо доказать добрым людям, что у нас все слаженно, добротно, ничего не завалилось набок и никто не контужен.