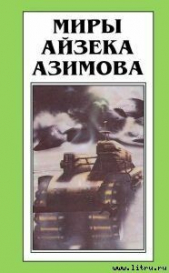Странник. Путевая проза

Странник. Путевая проза читать книгу онлайн
Сборник путевой прозы мастера нон-фикшн Александра Гениса («Довлатов и окрестности», «Шесть пальцев», «Колобок» и др.) поделил мир, как в старину, на Старый и Новый Свет. Описывая каждую половину, автор использует все жанры, кроме банальных: лирическую исповедь, философскую открытку, культурологическое расследование или смешную сценку. При всем разнообразии тем неизменной остается стратегия: превратить заурядное в экзотическое, впечатление — в переживание. «Путешествие — чувственное наслаждение, которое, в отличие от секса, поддается описанию», — утверждает А. Генис во вступлении и показывает, как это делается.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Прямо посередине Таймс-сквер, на самой что ни есть проезжей части, в садовом беспорядке стояли дешевые шезлонги. Их занимала школа акварелистов на этюдах. Художники старательно перерисовывали пейзаж, состоящий из цветной и ненужной информации. Выше других реклам забрался Бенджамин Франклин со стодолларовой купюры.
«Я еще вернусь!» — объявлял он городу и миру.
Здесь, в сердце Мамоны, ему нельзя было не поверить.
В этом городе мне довелось жить дольше, чем в любом другом. Я видел его днем и ночью, зимой и летом, трезвым и пьяным, молодым и не очень. Но с седла Нью-Йорк выглядел иначе, и мне показалось, что у нас начался второй медовый месяц. Первый, как это обычно и бывает, испортила неопытность. Сперва я не принял его старомодную нелепость, не оценил наивных пожарных бочек на крыше, не полюбил хвастливую, уместную только в Новом Свете эклектику. Чтобы полюбить Нью-Йорк таким, как есть, ушло полжизни. Теперь он мне понравился еще больше. С велосипеда город выглядел таинственным, словно в хорошем, как у Кесьлевского, кино, где реальность плывет в психоделическом направлении.
Осматривая город верхом, мы подключаем к зрелищу два новых фактора: высоту и ритм. Один подразумевает прихоть, другая поднимает над толпой, позволяя глядеть поверх машин и голов. С велосипеда дальше видно. Еще важнее, что, садясь в седло, меняешься сам. Водитель зависит от машины: ее нужно кормить и нельзя, как маленькую, оставлять без присмотра. Пеший идет в толпе. Но всадник — аристократ дороги. Крутить педали — почти всегда одинокое занятие, даже по телефону говорить трудно. Предоставленный самому себе, велосипедист, как мушкетер, меньше зависит от навязанных другим правил — включая дорожные. Поэтому в городе два колеса дороже четырех, ибо велосипед ужом обходит пробку. Понятно, почему в тесной Европе на велосипед молятся, видя в нем панацею от удушья.
Сегодня велосипед повсюду берет реванш над машиной, вытесняя ее на обочину пригорода. Это происходит во всех больших (не говоря уже о маленьких) городах, кроме, пожалуй, Москвы. Только здесь я замечал саркастические взгляды, которыми провожали настойчивых иностранцев, таскавших велосипеды взад-вперед по бесконечным подземным переходам русской столицы. Чувствовалось, что тут велосипед — легкое, вроде шляпы, чудачество, не приспособленное, как мне объяснили, к отрицательной изотерме января. Другие страны, впрочем, доказали, что велосипед — универсальное средство транспорта, подходящее для всякого климата. В Дании колеса обувают в зимние шины, в Голландии носят непромокаемые чехлы, в Финляндии строят туннели под снегом. Америка — особый случай: она велосипед открыла.
В Европе велосипед долго считался либо игрушкой, либо курьезом — особенно когда в седло взбирался Лев Толстой (за что я люблю графа еще больше). Только в Новом Свете велосипед встал, так сказать, на ноги. С него началась вторая индустриальная революция. Между паром и компьютером оказался велосипед. Первый собранный из взаимозаменяемых частей механизм открыл конвейер, превративший роскошь в необходимость. Не случайно первые самолет и машина родились в велосипедной мастерской, где начинали и братья Райт, и Генри Форд.
Радикально улучшив американские дороги, велосипед уступил их автомобилю, чтобы вернуться в ореоле экологической славы. Сегодня он вновь царит в городе, о чем говорит расписание двухколесных мероприятий. Этим летом в Нью-Йорке проходит велосипедный конкурс красоты, рыцарский турнир на колесах, велосипедный парад, вело-кино-ретроспектива, гонки по переулкам, прыжки в длину с разгона и фестиваль велосипедной порнографии, что бы это ни значило. В сущности, сегодня велосипед — скорее культ, чем средство передвижения. Поэтому раз в год тысячи жителей Нью-Йорка вводят своих любимцев за шею под высокие своды кафедрального собора, где над ними свершают торжественный обряд благословения велосипедов.
Лучшую часть жизни я провел на велосипеде, с которого и сейчас редко слезаю — даже в гололед. Но и мне понятно, что далеко не всегда и всюду это незатейливое устройство практично, безопасно, удобно и надежно. Дело, однако, в другом. Велосипед стал любимым ответом прогрессу. Он возвращает нас на ту ступень эволюции, где техника, еще не разминувшаяся с человеком, зафиксировала наш паритет с машиной: двухколесное — двуногим.
Акме Нью-Йорка
Города, как люди, живут долго, но не всегда (если, конечно, не считать Рима), и это значит, что у них, как у нас, есть возраст зрелости и спелости. Пора, когда все достигает предела своих возможностей. У греков такое называлось «акме»: зенит развития, высшая точка кривой, ведущей от колыбели к могиле. И первая и вторая мало интересовали античных биографов, судивших персонажей по их звездным часам. Только в свои лучшие годы люди равны себе, а города открывают нам собственную природу, показывая все, на что способны. Приняв такую манеру счета, мы убедимся в том, что акме Венеции приходится на XVI столетие, Петербурга — на XVIII, Парижа — на XIX. В этой хронологии Нью-Йорку достался XX век, но не весь. Ведь акме городов тоже не длится слишком долго. Нью-Йорк нашел себя в самые трудные — 30-е годы, когда городу открылась его судьба и прелесть.
Середина двадцатых. В обезумевшей от войны Европе потерянное поколение торопится жить: короткие юбки, короткие стрижки, короткие книги, африканские ритмы — Век джаза. Новому времени нужны новые вещи. Едва оправившись от войны, французы (кто ж еще) решили вернуть почти угробленному континенту вкус к жизни и любовь к роскоши. Знающие в ней толк парижане решают вернуть себе звание столицы, на которую претендовала довоенная Вена. Чтобы показать себя в международном контексте, Париж в 1925 году устраивает выставку декоративных искусств, давшую (намного позже) наименование последнему из великих художественных стилей Европы: арт-деко. Он был то ли опровержением, то ли продолжением ар-нуво, соблазнительного, но слишком вычурного искусства «прекрасной эпохи».
Если ар-нуво — рококо XX века, то ар-деко — его ампир. Заменив кривую линию прямой, дизайнеры приняли индустриальную геометрию, но сделали ее изысканной и нарядной. Вместо того чтобы спорить с машиной, они смиряли ее брутальную суть элегантной формой, экзотическими цветами и драгоценными материалами, главным из которых стало золото. Шедевр ар-деко — машинный век с человеческим лицом, пусть и раскрашенным. Этот стиль отличается от бездушного функционализма, объявившего орнамент преступлением и застроившего планету взаимозаменяемыми коробками, которые и снести не жалко.
Объединив французский кубизм, итальянский футуризм и русский конструктивизм, художники ар-деко создали свою азбуку дизайна: стилизованные букеты, юные девы, мускулистые юноши, элегантные олени и лучи вечно восходящего солнца. В ар-нуво орнамент был повторяющимся и ассиметричным, как волна. Искусство ар-деко любило энергичный зигзаг, подражавший молнии.
Главным в новом стиле считалась беспрецедентность. XX век тогда был еще молодым, но уже умудренным. Он чурался пышного прошлого, которое привело к катастрофе, и жаждал обновления жизни или — хотя бы — ее стиля. Поэтому пафос выставки заключался в ее оригинальности. Организаторы запретили участникам использовать классические мотивы. Для этого художникам пришлось отказаться от универсального языка античности, которым они пользовались 25 столетий. (Исключение сделали только для Италии, ибо считалось, что без колонн ей жить так же трудно, как без оливкового масла.) Парижане отвели экспозиции громадную эспланаду, ведущую к Дому инвалидов. Через шесть месяцев все павильоны должны были снести. Недолговечность выставки провоцировала дерзость зодчих, азартно игравших новыми формами и материалами. Лучше всех с этим справилась советская Россия, блеснувшая конструктивизмом, впервые, как считают историки, привившим архитектуре любовь к стеклу и бетону.