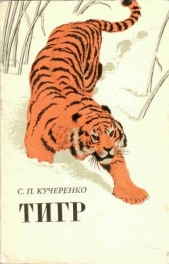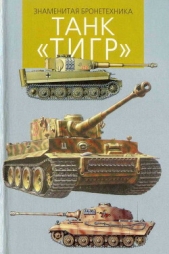Часы

Часы читать книгу онлайн
Майкл Каннингем (р. 1953) — американский писатель, лауреат Пулицеровской премии за 1999 год.
Как устроено время? Как рождаются книги? Как сцеплены между собой авторские слова-сны? Как влияют события (разнесенные во времени и пространстве) на слова, а слова — на события? Судьба Вирджинии Вулф и ее «Миссис Дэллоуэй». Англия 20-х и Америка 90-х. Патриархальный Ричмонд, послевоенный Лос-Анджелес и сверхсовременный Нью-Йорк. Любовь, смерть, творчество. Обо всем этом и о многом другом в новом романе Майкла Каннингема «Часы» (Пулицеровская премия за 1999 г.).
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Прости, — говорит Луи.
— Все нормально. Господи, ты только подумай, сколько всего произошло.
— Я чувствую себя полным идиотом.
Он встает и подходит к стеклянным дверям (семь шагов), Сквозь радугу слез он различает мох, заполняющий трещины в камне, бронзовое блюдце прозрачной воды, на поверхности которой покачивается одинокое белое перо. Он не знает, почему он плачет. Он вернулся в Нью-Йорк. Может быть, он плачет над этим странным садом, над болезнью Ричарда (почему он сам не заболел?), над этой комнатой, Клариссой, всем. Может быть, он плачет над Хантером, который только смутно похож на настоящего. У того, настоящего, есть трагический масштаб, глубина, скромность. Луи плачет о нем.
Кларисса подходит к нему.
— Все нормально, — повторяет она.
— Идиотизм, — бормочет Луи, — круглый идиотизм, Кто-то открывает входную дверь.
— Это Джулия, — говорит Кларисса.
— Черт.
— Не волнуйся. Ей приходилось видеть плачущих мужчин.
Черт принес ее дочь. Луи расправляет плечи и отступает на шаг в сторону, высвобождаясь из-под Клариссиной руки. Он продолжает вглядываться в сад, пытаясь привести в порядок лицо. Он думает о мхе. Он думает о фонтанах. Его вдруг начинают живо интересовать мох и фонтаны.
Странно, говорит некто внутри него, почему он думает о таких вещах?
— Здравствуйте, — раздается у него за спиной голос Джулии. «Здравствуйте», а не «привет». Она всегда была серьезной, умной девочкой, чересчур крупной, немного чудной и непредсказуемой.
— Привет, родная, — отвечает Кларисса. — Ты, конечно, помнишь Луи? Луи оборачивается. В конце концов, пусть знает, что он плакал. Черт с ней.
— Конечно помню, — говорит Джулия.
Она подходит к нему, подает руку. Ей восемнадцать, может быть, девятнадцать. Она так изменилась, стала такой потрясающей, что Луи с трудом сдерживается, чтобы снова не разрыдаться. Последний раз они виделись, когда ей было тринадцать, и она была толстой, неуклюжей, безумно застенчивой. Она и сейчас не красавица и никогда не будет красавицей, но в ней проявилось обаяние ее матери, то же золотистое чувство собственного достоинства. Она чудесна и уверена в себе, как юная спортсменка. У нее чистая розовая кожа, очень короткая стрижка, чуть ли не наголо.
— Джулия! — говорит он. — Как приятно тебя видеть!
Она крепко пожимает ему руку. В носу у нее тонкое серебряное колечко. Она яркая и ладная, пышущая здоровьем, похожая на идеальную ирландскую поселянку, только что вернувшуюся с поля. Наверное, она в отца (представляя себе отца Джулии, Луи всегда воображал рослого молодого блондина, полунищего актера или художника, ловеласа, преступника, отчаянного малого, опустившегося до продажи собственных жидкостей: крови — в банк крови и спермы — в банк спермы). Судя по всему, он был настоящим великаном, ожившим героем кельтских мифов, если, глядя на Джулию в короткой маечке, шортах и черных армейских башмаках, так и видишь ее с вязанкой хвороста на одном плече и с ягненком на другом.
— Здравствуйте, Луи, — говорит она.
Она сжимает его руку, но не трясет. Конечно, она видит, что он плакал. И кажется, это ее не слишком удивляет. Интересно, что ей о нем рассказывали?
— Ну, мне пора, — говорит он. Она кивает. Потом спрашивает:
— Вы надолго в Нью-Йорк?
— Всего на несколько дней. Но скоро я перееду сюда насовсем. Рад был тебя повидать. Пока, Кларисса.
— В пять часов, — говорит Кларисса.
— Что?
— Прием. Начало в пять. Пожалуйста, приходи.
— Обязательно приду.
— До свидания, Луи, — говорит Джулия, красивая девушка, говорящая не «привет», «пока», а «здравствуйте» и «до свидания». У нее удивительно мелкие, очень белые зубы.
— До свидания.
— Ты правда придешь? — говорит Кларисса. — Пообещай мне, что придешь.
— Обещаю. До свидания.
С глазами, так и не просохшими от слез, он тащится к входной двери. Он жутко злится на Клариссу и смутно — полный абсурд! — влюблен в Джулию (притом, что его никогда не тянуло к женщинам — у него до сих пор мурашки по коже от воспоминания о той дикой, безумной попытке с Клариссой, которую он предпринял, просто чтобы подтвердить свои права на Ричарда). Он рисует себе их с Джулией бегство из этой чудовищной, стильно обставленной квартиры; подальше от этих стен льняного оттенка и ботанических репродукций, от Клариссы и ее газированной воды с ломтиками лимона. Он спускается в тускло освещенный холл (двадцать три ступеньки), выходит в вестибюль и потом на Западную Десятую улицу. Солнце, как прожектор, ударяет ему прямо в лицо. Он с невольной благодарностью присоединяется к насельникам этого мира: похожему на хорька человечку с двумя таксами; обильно потеющему толстяку в темно-синем костюме; лысой женщине (мода? химиотерапия?) с лицом, напоминающим свежий синяк, слюнявящей сигарету возле Клариссиного дома. Луи обязательно вернется сюда; поселится в Уэст-Виллидж; будет коротать вечера в «Данте» [11], с сигаретой и чашкой эспрессо. Он еще не старый, нет. Позапрошлой ночью он остановил машину посреди Аризонской пустыни, вылез и стоял под звездами до тех пор, пока не ощутил присутствия своей души или как там это еще назвать; той непрерывной части своего существа, которая когда-то была ребенком, а уже через миг стояла под звездами в стрекочущей тишине пустыни. С несколько отвлеченной теплотой он думает о себе, юном Луи Уотерсе, всю свою молодость пытавшемся жить с Ричардом, испытывая попеременно то гордость, то гнев от неустанного Ричардова восхищения его руками и ягодицами. В конце концов они расстались. Произошло это после той ссоры на вокзале в Риме (из-за письма, которое прислала Ричарду Кларисса, или просто потому, что Луи надоело чувствовать себя более удачливым и менее одаренным членом компании?). Но так или иначе, Луи, который уже тогда, в свои двадцать восемь лет, чувствовал, что больше не молод, и переживал по поводу упущенных возможностей, убежал от Ричарда и сел в первый попавшийся поезд, следующий, как выяснилось, в Мадрид. В то время казалось, что это резкий, но не окончательный жест, и, глядя на проносящиеся мимо виды (проводник раздраженно информировал его, куда именно он едет), Луи испытал странное, почти противоестественное наслаждение. Он был свободен. Теперь он уже почти ничего не помнит о своих бесцельных шатаниях по Мадриду; он даже забыл, как звали того итальянского мальчика (Франко? неужели его действительно так звали?), который убедил его плюнуть на затянувшийся, обреченный роман с Ричардом и поискать более простых радостей. Одно он помнит совершенно ясно: сидя тогда в поезде, он испытал ту разновидность счастья, которая, по его представлению, ведома душам, сбросившим земные оболочки, но еще не забывшим, кто они. Он идет на восток, к университету (семьдесят семь шагов до угла). Он ждет, когда светофор поменяет цвет.
Миссис Браун
Она едет в своем «шевроле» по Пасадина-фривей между холмами, там и сям опаленными прошлогодним пожаром, испытывая такое чувство, будто ей это снится, точнее, снилось когда-то, а теперь вспоминается. Все вокруг словно приколото к этому дню, как усыпленные эфиром бабочки — к картону. Вот выгоревшие черные склоны, усеянные не тронутыми пламенем оштукатуренными домиками пастельных тонов. Вот подернутое дымкой бледно-голубое небо. Лора ведет машину не слишком быстро, не слишком медленно, время от времени поглядывая в зеркало заднего вида. Она — женщина в машине, которой снится, что она едет в машине.
Она оставила сына с миссис Лэтч, живущей на другом конце улицы. Сказала, что у нее срочное дело, связанное с днем рождения мужа.
На нее напал панический страх — ей кажется, что «панический страх» как раз адекватное выражение. Уложив сына, она попробовала было прилечь; попробовала читать, но так и не смогла сосредоточиться. Она лежала с книгой в руках, испытывая полную опустошенность, замученная ребенком, тортом, поцелуем. Почему-то именно эти вещи не давали ей покоя, и, лежа на двуспальной кровати, в комнате с задернутыми шторами и зажженной прикроватной лампой, она мысленно сказала сама себе: ага, значит, вот как сходят с ума. Раньше ей казалось, что это должно происходить как-то иначе — воображая человека (женщину, во многом похожую на нее), теряющего рассудок, она представляла себе галлюцинации, стоны и вопли; выяснилось, однако, что бывает совсем по-другому: гораздо тише и безнадежнее. По сравнению с ее теперешним оцепенением любая эмоция, даже грусть, явилась бы неким видом освобождения.