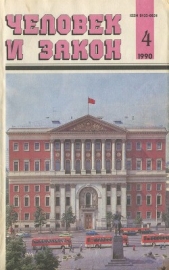Воображаемый репортаж об одном американском поп-фестивале
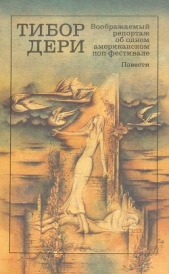
Воображаемый репортаж об одном американском поп-фестивале читать книгу онлайн
В книгу включены две повести известного прозаика, классика современной венгерской литературы Тибора Дери (1894–1977). Обе повести широко известны в Венгрии.
«Ники» — согретая мягким лиризмом история собаки и ее хозяина в светлую и вместе с тем тягостную пору трудового энтузиазма и грубых беззаконий в Венгрии конца 40-х — начала 50-х гг. В «Воображаемом репортаже об одном американском поп-фестивале» рассказывается о молодежи, которая ищет спасения от разобщенности, отчуждения и отчаяния в наркотиках, в «масс-культуре», дающих, однако, только мнимое забвение, губящих свои жертвы. Символический подтекст повести — предупреждение о грозящей героям и всему человечеству моральной деградации, которую несут многие ложные ценности и приманки современного общества потребления.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Вы признаете, что избили Джона Янга, фоторепортера из Беркли, двадцати четырех лет, во время исполнения им своих обязанностей?
— Вполне возможно.
— Сначала его же фотокамерой ударили по лицу, потом, упавшего, сапогом по голове, а кассету с пленкой вынули и положили в карман. А товарищи ваши продолжали избивать раненого и окровавленного.
— Вполне возможно.
— Объясните, что там произошло.
— Я сказал: не снимать, но он слов не слушался.
— Бильярдными киями избили?
— Вполне возможно.
— Ударив Янга, вы же знали, наверно, что убийство Мередита Хантера уже заснято, причем многими?
— Знал, не знал… Меня там не было!
— Это мы еще выясним. Скажите, сколько, по-вашему, было ранено в первый день, когда все двинулись к эстраде, а вы врезались в колонну на мотоциклах?
— Сколько? А чего они дорогу нам не уступали? Камнями кидались, один мотоцикл даже подожгли.
— Участвовали вы в этом?
— Да, был там.
— Сколько лично вы сшибли человек?
— По-моему, никого.
— Ну хорошо. Поговорим о другом. Вот вы упомянули о монтанских фермерах, которые требуют денег с Мика Джеггера, очевидно, в возмещение ущерба. Что вы об этом знаете, то есть — каков причиненный ущерб?
— Да небольшой. Ну заборы там на костры порастащили, погреться. Жгли все: тару синтетическую, хлеб, газетную бумагу, что попадется, вонищей тянуло по всей котловине, с души воротит. Ограду автодрома тоже разломали на дрова. Фермеры, по-моему, иск хотят Мику предъявить.
— Иск? На какую сумму?
— Сами еще не знают. Тысяч на десять, вначале говорили, но потом подняли до миллиона. Сейчас вроде на пятистах тысячах остановились.
— Пятьсот тысяч долларов за несколько заборов?
— Они говорят, у них три или четыре сарая разобрали, скота пропало много, водопровод испортили. У одного жена жалуется, что изнасиловали, другой вынужден был «прибегнуть к оружию», чтобы «свою честь защитить», как он сказал. Тоже небось не дураки заработать.
— Тоже? А кроме них?
— Да все. Администрация штата свой иск вчинила, на сто тысяч, столько, мол, шерифам переплатили за сверхурочные пять тысяч часов.
— А кто еще?
— Да бог их знает. Вон владелец автодрома, у него два тягача подожгли и ограду поломали, на топливо унесли. А он и сам в доле, но теперь у него хотят отобрать автодром, уж не знаю почему. Но он своим чередом подал жалобу. Киношникам тоже бизнес: полсбора требуют за прокат фильма, да Мик на это не идет, вот и судятся, чтоб им всем пусто было.
— А семья Хантера?
— Негры эти?
— Семья убитого Мередита Хантера.
— А чего им судиться? Жизни за доллары эти поганые не вернешь.
— Вот то-то и оно.
— Мамаше его Мик и сам больничные издержки может оплатить, уж выжмет как-нибудь из своей страховки.
— На сколько он застраховался?
— На миллион долларов на время фестиваля в лондонском страховом обществе Ллойда, сам говорил. Ребята его тоже застраховались, кажется, на сто тысяч, толкуют, правда, и про пять миллионов. А, хотя бы на адвокатов хватило.
— А вы не подаете в суд?
— Кто?
— Вы, «ангелы ада». Ваша калифорнийская группа.
— Нет.
— Просто удивительно.
— А что тут удивительного? Вы про Мелвина Белли не слышали?.. Защитником выступал в деле Кеннеди. Слыхали небось. Так вот он всех тут представляет, и группы, и менеджеров, конторы, нью-йоркскую и лондонскую, и босса этого, у которого автодром, — все дела ведет, и за и против; вся эта грязная шайка у него в кулаке. Такой нам не по карману.
— Ну, хорошо. Оглашаю выдержку из протокола осмотра тела убитого…
— Оглашайте не оглашайте, мне это без разницы.
— Предупреждаю, что в ваших же интересах помолчать. Вот что говорится во врачебном заключении: смерть последовала вследствие многочисленных внутренних кровоизлияний, на спине обнаружено несколько колотых ран, на шее и в висках тяжелые колотые раны и следы ударов. Произведенное вскрытие показало, что нож, которым нанесены широкие, в два-три сантиметра раны, пройдя меж ребрами, рассек аорту; ниже, под реберной дугой, повреждена почечная артерия; оба ранения смертельны. На раздробленном левом виске — рана глубиной в два сантиметра.
— Конечно, в палатке возле красного «ситроена» Эстер я не нашла, — сказала Беверли, — и никаких там знакомых не было, к кому она могла бы заглянуть. Не знаю уж, что ей там понадобилось. Я еще потопталась немного вокруг да около: вдруг еще куда-нибудь зашла, в другой палатке устроилась или в автофургоне. Потом меня словно осенило. Гениальная мысль, сразу меня успокоившая: ну, конечно, в наш автобус вернулась и спит себе там.
— Но ее там не было, — сказала Беверли. — Мы и в глаза ее не видели, — сказали мне те три или четыре человека, которые решили переждать в автобусе грозу перед торжественным закрытием фестиваля, — ее тут больше не было после нашего приезда.
— Вся потная, опустилась я на сиденье, — сказала Беверли. — Но уснуть не могла. Смотрела на струйки, сбегавшие по стеклу, и думала про свою мать, которая тоже жила одна и умерла в одиночестве… «И ты тоже одна останешься, дура бестолковая, — говорила я себе. — Где это вдруг кобель такой дурной найдется, который за тобой будет бегать, за этими твоими опухшими варикозными ножищами и облезлой головой? Как же, дожидайся. Да и нужны они мне, эти мужики. Эстер? Но это безнадежный случай, безнадежный. Все равно что облачко залучить в постель, любой ветерок сдует, унесет, у, дура бестолковая».
— Дождь, — сказала Беверли, — дождь. Как ни кинь, а все выходит: одна под проливным дождем. Под кровавым ливнем. Эстер ты любишь — что ж, это хорошо. Но не просто ли потому, что одинока? Последовала бы ты и в могилу за ней, как докторша эта за мужем? За своим мужем?
— Если, конечно, — сказала Беверли, — если, конечно, и докторша не променяет своего места рядом с ним на кладбище на серию героиновых коктейлей в вену плюс соответствующие удовольствия. Ибо и мы, женщины, имеем право на удовольствие, как сказал один глубокий ум. В век оргазма живем, по его словам. Не важно, мужчина доставил удовольствие или стеклянный шприц. Тем более что и мужчинам все безразличней становится, куда всаживать. Им приятней убить, чем полюбить.
— Дождь, — сказала Беверли, — дождь. И ты одна под дождем, слепая курица. Тьмой и слезами переполнилась юдоль земная, поглотив единственный огонек, свет жизни и очей твоих. Но вдруг опять на него набредешь? Вдруг рай твой опять раззявит пасть и звездочку выплюнет, которая снова-здорова в Вифлеем поведет (как ты надеялась)? Едва она в Америку явилась из своего Бухареста, то есть Будапешта, не помню, сколько лет назад, ты уже вообразила, будто смысл жизни нашла, лакомейший кусочек, который только может перепасть женщине на этой дерьмовой планете. Решила, будто в одном лице матерью и возлюбленным станешь для этого несчастного ребенка, обреченного на пожизненное сиротство. Ты еще тогда не ведала, что ребенок этот — взрослая замужняя женщина, которая своего мужа любит. Не знала, что и обманывает его, несмотря на всю свою любовь. Не ведала, что ребенок этот старше собственной незваной матери. Но как ты ни глупа была, одно знала хорошо: надо ее спасти.
— Дождь, — сказала Беверли, — дождь. Не капля ты во множестве капель, а капля обособленная, одиночная, дура ты, дура. Еще в момент зачатия обреченная на одиночество, как и твоя мать, которая выжила всех из дому, ибо с целым миром ужиться не могла. С миром или принципом мироздания, можно и так сказать. И решила ты, еще одна глупая девчонка, людям послужить, думая, будто заодно сама спасешься. Если не всему стаду, рассуждала ты, хоть одному кому-то пользу принести… И в Париже, в желторотом девичестве — когда еще меньше мозгов болталось под волосяным покровом вот здесь, в этой голове — восхотелось тебе свою жалкенькую жизнь человечеству посвятить: в революционерки пошла. Покамест…
— …покамест, — сказала Беверли, — покамест-покамест… Дождь идет, все идет. Покамест не сообразила, что и оппозиция — только одна из составляющих данного общественного строя, как сам черт — необходимая принадлежность божественного истэблишмента, коему и служит, хоть он себе вот такие когти, вот такие зубы и задницу отрасти. И его тоже со всеми потрохами поглотит царствие небесное. «Ну, и шут с вами, — так ты подумала после этой неудачной попытки совокупления, — пусть не целому стаду, но одному кому-то можно ведь помочь, невзирая даже на дождь, на дождь, который стучит и стучит в окошко». Черта лысого можно, дурища несчастная.