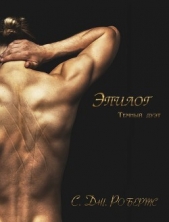Хендерсон — король дождя (другой перевод)

Хендерсон — король дождя (другой перевод) читать книгу онлайн
Об этом романе Генри Миллер сказал: «Я только мечтать могу так писать».
Этим романом восхищались Курт Воннегут и Джозеф Хеллер.
Этот роман критики единодушно признают одним из лучших американских произведений XX века. Рок-музыканты посвящали ему песни, он лег в основу либретто популярной рок-оперы, а также одной из серий культовых «Секретных материалов».
Но чем же так заворожила и литературоведов, и писателей, и самых обычных читателей трагикомическая история стареющего миллионера Юджина Хендерсона, сбежавшего от привычной жизни в Африку и сделавшегося шаманом-целителем в маленьком бедном племени?
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Мы встретились с Кларой Спор как-то зимой на Центральном вокзале. Я только что побывал у Спора, дантиста, и Гапони, музыканта, и спешил домой по нижнему переходу, едва освещенному старенькими лампочками. Бегу по полу, истоптанному миллиардами башмаков, сапог, туфель, и вдруг вижу: из «Устричного бара» выходит Клара, выходит, словно яхта с поломанными мачтами, обломки былой красоты… Я не успел прошмыгнуть мимо. Дама крепко вцепилась мне в руку (не в ту, которой я держал футляр со скрипкой) и потащила меня в вагон-ресторан выпить. В этот самый час Лили позировала ее мужу. «Может, ты хочешь отделаться от меня и поехать с женой домой? — сказала Клара. — Малыш, зачем тащиться в Коннектикут? Давай спрыгнем с поезда и гульнем».
Поезд уже набрал ход, и вскоре мы покатили по заснеженному закатному Лонг-Айленду. Выплевывая клубы черного дыма, бороздили залив. Сверля меня глазами и вздернув курносый нос, Клара болтала, болтала без конца. Она еще не излечилась от застарелой болезни — жажды жить. Рассказала, как в молодости была на островах Самоа и Тонга, на яхте, среди зарослей цветов. Говорила с такой горячностью, с какой, думаю, Черчилль давал клятву драться до последней капли крови за милую Англию. Я не мог не посочувствовать собеседнице, хотя вообще придерживаюсь мнения, что если человек хочет распахнуть перед тобой душу, не надо затыкать ему рот. Не стоит замыкаться в себе.
Когда поезд подходил к ее станции, старая лицедейка зарыдала.
Я уже говорил, каково мне видеть женские слезы. Мне и самому хочется плакать.
Я помог Кларе спуститься на покрытый снегом перрон и пошел за такси.
Мы вошли к ней в дом. Я попытался помочь ей снять сапоги, но она с неразборчивым восклицанием подняла мою голову и начала целовать меня. Мне бы ее оттолкнуть, но я, как последний дурак, стал отвечать на поцелуи. Правда, мешал новый мост. Вместе с сапогами снялись ее туфли. Мы обнялись. Душная прихожая была заставлена безделушками, привезенными с островов Южных морей. Мы целовались так, будто прощались навек. Что это было? Безумие? Похоть? Опьянение? Яростно, как слепень жалит кобылу, впивался я в бывшую красавицу. Лили и Клаус Спор все это видели. В гостиной горел свет.
— Целуетесь? — спросила Лили. Клаус не проронил ни слова. Все, что делала Клара, было правильно.
XI
Я рассказал о новом мосте, сделанном из самого крепкого материала, fort comme la mort [9]. Мне говорили (то ли Френсис, то ли Лили, то ли Берта), что во сне я скриплю зубами, а это вредит им. Может быть, я чересчур часто целовал и кусал Жизнь. Так или иначе я задрожал, когда выплюнул в ладонь сломанный раскрошенный зуб, и подумал: «Похоже, ты зажился, Хендерсон». Хлебнув из фляги, сполоснул зуб остатками виски и убрал в нагрудный карман на тот случай, если встречу в африканской глуши дантиста.
— Ромилей, какого черта они заставляют нас ждать? — Потом добавил, понизив голос: — Как ты думаешь, они знают о лягушках?
— Не думать, господин.
Со стороны дворца донеслось рычание.
— Это что, лев?
Ромилей согласился:
— Да, лев.
— И его держат во дворце?
— Может быть, — неуверенно отозвался Ромилей.
Малый, стороживший нас, велел встать. Мы вошли в хижину. Нас усадили на два низких табурета. Рядом встали две бритоголовые женщины с факелами в руках. Головы у них были большие, но правильной формы. Обе улыбались, и это утешало меня, но недолго. В хижину вошел человек, кинул на меня взгляд, и мне почему-то подумалось: «Он наверняка слышал обо мне, может, знает про историю с лягушками, может, что-то другое». Во мне опять проснулась совесть.
Что это у него на голове? Головной убор официального лица?
Этот тип сел на скамью. В руках у него был жезл из слоновой кости, на запястьях — манжеты из леопардовой шкуры.
— Не нравится мне, как он на нас смотрит, — сказал я Ромилею. — Заставил долго ждать — зачем?
— Не знать.
Я расстегнул сумку и выложил на землю несколько зажигалок, лупу и другую подобную мелочь. Человек не обратил на это никакого внимания. Он подал кому-то знак. В хижину внесли толстую книгу большого формата. Значит, они грамотные, подумал я, это удивило и обеспокоило меня. Что за книга? В голове роились странные предположения, если не фантазии. Принесенный том оказался географическим атласом. Человек смочил пальцы слюной и стал перевертывать страницу за страницей.
— Говорит показать твой дом, господин, — перевел Ромилей.
— Что ж, это разумно. — Я стал на колени, нашел карту Северной Америки, с помощью увеличительного стекла отыскал на ней Данбери в штате Коннектикут и показал свой паспорт. Бритоголовые женщины смеялись над моей неуклюжей позой, тучностью и нервным, искаженным гримасой лицом.
Мое лицо иногда выглядит таким же большим, как тельце младенца, выражение постоянно меняется. Оно то задумчивое, то печальное, то вызывающее. Чаще всего на нем написано сомнение. Целая гамма человеческих чувств в зависимости от обстоятельств. Я то сдвигаю брови, то раздуваю ноздри, растягиваю рот до ушей. Цвет лица тоже постоянно меняется — от красного, как гвоздика, до серо-желтого, как вареная картофелина.
— Этот джентльмен — не самое высокопоставленное лицо. Где же сам король? Я мог бы с ним поговорить. Он знает английский. Скажи ему, я хочу немедленно видеть его величество.
— Нет, господин. Он есть полиция.
— Ха-ха, не смеши.
Но этот субъект действительно смотрел на меня изучающим взглядом, как любой полицейский чин. Если помните, что у меня был конфликт с полицией штата (я разбушевался в закусочной неподалеку от федерального шоссе № 7, и Лили пришлось внести залог, чтобы меня выпустили), то легко представите, как я, владелец большого состояния, аристократ и вообще человек, плохо владеющий собой, отношусь к допросам в органах правопорядка. Кроме того, я гражданин Соединенных Штатов Америки, а это кое-что значит, даже в таких диких местах. Я начинал хорохориться, но решил быть осторожным.
Допрос велся деловито, напористо. Когда мы вышли из Бавентая? Сколько времени пробыли у арневи и что там делали? Я повернулся к африканцу-полисмену здоровым ухом и приложил руку трубочкой, стараясь уловить, не произнесет ли он слова, похожие на «водоем», «взрыв», «лягушки», хотя вполне доверял Ромилею. Так бывает: где-нибудь в тропиках, у озера, что кишит крокодилами, натыкаешься на хорошего человека и заводишь с ним знакомство.
Между тем Ромилей, должно быть, рассказал о жестокой засухе в долине реки Арневи, ибо африканец объявил, что варири готовятся провести особую церемонию, чтобы вызвать с небес дождь.
«Уак-та!» — сказал африканец и, опустив книзу пальцы обеих рук, изобразил ливень.
Я едва сумел скрыть скептическую усмешку.
— Спроси, когда нам вернут наше оружие? — сказал я Ромилею.
Мне ответили, что чужеземцам запрещено носить оружие на территории племени.
— Хорошее правило, — сказал я. — Глаза бы мои не видели никакого оружия! Так было бы лучше для меня и для других. Только скажи, чтобы они не поломали оптический прицел. Для них он в новинку.
Наш африканец обнажил десны с рядами испорченных зубов: я что, рассмешил его?
— Какова цель вашего путешествия? — перевел Ромилей.
Снова вопрос, вроде того, какой задал Теннисон, увидев в потрескавшейся стене цветы. Ответ на подобный вопрос отнюдь не прост. Он потребовал бы изложения всей истории мироздания. Я не знаю ответа, как не знал и тогда, когда этот вопрос задала мне Виллателе. Что же я мог ответить этому африканцу? Что возненавидел существование как таковое? Меня здесь просто-напросто не поймут. Мог ли я сказать, что люди, вообще все люди сделались противниками жизни, а я не согласен с ними и продолжаю жить наперекор всему? Что есть во мне что-то такое, гран-ту-молани, что поддерживает меня на плаву?
Не мог же я сказать: «Видите ли, мистер полицейский, все чудовищно перепуталось. Люди — всего лишь побочный продукт процессов, происходящих в мире».