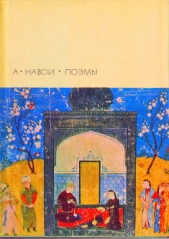Весна в Ялани

Весна в Ялани читать книгу онлайн
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Пошёл Коля в огородчик. Остановился посреди него. Осматривается. Скворцы поют, воробьи чирикают, веселятся – слышит. Глухо мычит корова во дворе – на свою горькую неволю-долю жалуется. Мышь где-то пискнула. И это ловит его слух. Привычно будто, но – как новое.
Душа смутилась. Отчего-то. С ней иногда случается такое. Находит что-то на неё.
Свои глаза и уши у души. – Бабушка Минодора говорила. Ты глядишь на вилку, она, душа-то, – на развилку, ты – на милочку, она – на бутылочку. Наоборот ли. И несогласие, раздор, и до худого недалёко… с ума, с катушек-то слетают, помилуй, Боже.
– Была чудная, но и… это…
Оставил добрая в уме. Кому-то – нет, ему – понятно.
Где яркий свет, где тень густая. Цветное что-то, что-то серое. Что-то и чёрное – земля. И выше – небо голубое.
Пристраивается Коля к этой пестроте глазами, ладонью их не прикрывает – стоит за солнцем. И всё знакомое. До радости, до боли. Скворечники. Четыре. По периметру. Одна – дуплянка, а три других – сколочены из досок. Дуплянку, самую старую из всех скворечников, ставили они с отцом, когда Коля ещё учился в школе, в классе восьмом или девятом. Остальные – и мастерил, и ставил Коля после армии. Отец болел уже, не выходил из дому. Но спрашивал у Коли, как сколотил, где их поставил и ветки к ним прибил кедровые?
– Папа, прибил, прибил… кедровые, конечно.
Ну, мол, и ладно.
Последний раз заглядывал сюда Коля зимой, перед самым Новым годом. Картошку доставал из погреба. Чтобы матери туда не лазить, с её ногой-то. В снегу дорожку прогребал. Было его тут под самые крыши, забор не виден даже был. Лежит теперь он, снег, только возле северной стены дома, горкой белой возвышается.
Взял Коля в ограде лопату и, вернувшись в огородчик, откидал снег дальше от стены, чтобы скорее просыхала; на солнце снег, разбросанный нетолсто, растает за день.
Когда был жив и ещё здоров отец, стояло здесь до пятнадцати ульев. А начиналось с одного. Коля с охотой помогал отцу проверять пчёл, качать мёд и делать ревизию. Пчеловодить ему нравилось. Объяснял отец сыну всегда спокойно и доходчиво, как обращаться с пчёлами, чтобы они не сердились, как подходить, как открывать и как дымить в проверяемый улей, и, когда, отмахнув с лица сетку и надев очки, находил сам, показывал Коле пчелиную матку; также показывал и трутней. Многому Коля у него научился. Когда отец умер, продала мать пчёл, а на этом месте, раскопав землю под гряды, стала выращивать мелочь. Капусту сажает в большом огороде, рядом с картошкой. Бежит в огороде, разделив его на две равные части, ручей безымянный; только когда сухое очень лето – пересыхает.
Вода там близко для поливки.
У калитки, что из огородчика выводит в огород, разболтались петли. Взяв молоток и щипцы, выдернул Коля старые гвозди и, вбив новые, укрепил петли; взяв солидол, и крючья смазал. Легко ходить калитка стала.
– Ну, вот и это…
Вернулся в ограду. Говорит матери:
– Готово.
– Чё, уже сладил?
– Там делов-то…
– Вот молодец. Спасибо, милый.
– Вынеси мне, мама, – говорит Коля, – болотники, а то я в этих… через Куртюмку не пройду.
– Ты бы в Култык.
– Да я сюда.
– Ну, осторожно… Там и покос бы наш проверил, в Култыке-то.
– Туда я после.
– Ну, смотри.
– Схожу как-нибудь, – говорит Коля, – почищу, и наш, и Лушин, пал пущу… после уж, в мае.
– Оно и в мае, – говорит мать, – не поздно будет. Да и в июне. Пока трава-то не поднимется. Это потом уж… мять не будешь.
Отставила она топор, поднялась на ноги, сняла калоши у двери и в сенцах скрылась. Вышла вскоре с болотными резиновыми сапогами и подала их Коле.
– Тяжесь така, как их таскашь?
– Нормально, – говорит Коля. – Не каждый день…
– Да уж какое там нормально… как в кандалах, и ноги сгубишь.
Прошёл Коля под навес, сел там на чурку. Переобулся. Встал. На чурку кирзовые сапоги поставил. К воротам подступил. И говорит:
– Ну, я пошёл.
– Ступай, сынок. С Богом, – говорит ему мать, от дела уж теперь не отрываясь. – Закончу скоро. Приходи. Тогда и пообедам.
Спустился Коля с угора, дошёл до Куртюмки. Расправил сапоги, перебрёл, зная мелкое место, разлившуюся речушку. Через неширокий, но высокий вал, нагромождённый из зелёного, ноздреватого льда и зернистого, скрипящего под сапогами снега, перебрался. Направился к Балахниной горе – она тут рядом, метрах в ста; склон у неё пологий с этой стороны, но длинный.
Вспомнилось Коле вдруг – нарочно он не вызывал, в памяти не копался, само по себе, по своим неведомым законам, Коле не подвластным, выплыло на ум, – как они с бабушкой Минодорой, таким же вот погожим днём весенним, ездили в открытом кузове матээсовской машины в город и останавливались ночевать у бабушкиной родной сестры Марии Сергеевны Александровой, баушки Марьи. Нагрянули к ней тогда под вечер в гости какие-то другие беззубые, но улыбчивые сестрицы, о которых раньше Коля и не слышал, в белых платочках, нарядные, но такие же старые, как хозяйка, и принялись молиться в угол, где была божница, полная икон, с зажжённой лампадкой. В церковь тогда милиция их почему-то не пустила. Наверное, на праздник дело было. В Седмицу Светлую, в один из дней. Потом был и чай с домашней стряпаниной, и яйца крашеные, были и разговоры. Что говорили остальные сестрицы, Коля забыл, а вот рассказ баушки Марьи запомнил.
– Ну, дак а чё? Я вам сто раз уже рассказывала. Одно и то же то, уж надоела. Ну, коли просите.
Давай, мол.
– Война. У Миши бронь была – работал в пароходстве. Командируют его, хозяина моего, в Игарку. Дело такое, не откажешься. Попрощались мы с ним горячо, порыдали. Уплыл. Я тут осталась. Ни жива ни мёртва. С детьми. Те ещё маленькие, чё там. Младшему год, а старшей пять. Письма поначалу приходили от моего Миши чуть ли не каждый день. Как какой транспорт оттуда, с низовки, так и письмо, с какой оказией ли вышлет. Жить без тебя, моя Марусенька-душенька, цветочек мой и моя ягодка, не в силах, тоскую, дескать, до сердечного ущему, до обмирания души. Ну, и листок-то как в слезах – над ним как плакал. Мне хоть маленько полегчает. Потом желанные весточки от любезного моего муженька стали приходить одна в неделю. Потом – и в месяц. Ну, думаю. Продала я, милые мои, жакетку новую, перед войной её купили. Определились так: Мише пинжак, а мне жакетку. Билет на пароход приобрела, отправилась. Дорога долгая, места красивые. Мне не до них, не до красот. Вся в ожиданиях. И наконец-то. Причаливает наш пароход к пристани. Бегут с высокого берега люди, встречают. Кто и давно там был, пришёл заранее. Смотрю – кольнуло даже сердце – чё-то знакомое, родное. Вижу, подруги мои дорогие, бежит впереди всех мужичонка косолапенький, но расторопный, вроде на кривеньких, но быстрых ножках, в белом фартуке, как у буфетчиц, ну и с лотком-то на груди – какой офеня. Кричит громче всех: «Пирожки в масле с рисом, пирожки в масле с капустой, пирожки!..» Ещё там с чем-то. Вкусней никто, мол, не едал. Встал. Ждёт, когда пассажиры спустятся. Пирожки на лотке, чтобы аппетитней-то, наверное, гляделись, перекладывает – по чьей подсказке, сам ли обучился. Краля к нему, вижу, приближается. Важная. Статная, как наместник. Он-то с ней рядом, как уродец. Грудь – как две тыквы у неё. Словом, красавица нарисованная, и только. Мне, худосочной, не чета. Помедлила я, как все сойдут-то, дождалась. Позволила ему продать больше, выручку сделать, не захотела навредить его торговле, чтоб не подумал… Схожу. Увидел меня Миша. Побледнел, замечаю, в лице изменился. Подступаю. А у самой, милые мои, душа в пятках – так меня новостью-то этой очевидной оглоушило, – и ноги трясутся. Хотя и думала, что чё-то тут неладное, подозревала. Вот, лепечет, помогаю. Мол, попросила… Не помню имени её. Я не слепая. Что там не только помощь, вижу, а любовь назрела, чирьем набухла. По обстановке и по взглядам-то. В ножки мне бухнуться – лоток не позволяет. Туда-сюда им лишь елозит, а тот – на лямке. И не обнять, а было сунулся. Оттаскала я его, сластолюбца, хорошенько за волосья, от всего сердца уж, утешилась. И стряпухе-то его сказала что-то, может, не очень и приятное. Стоит в сторонке та, не вмешивается. Опять мой милый мне: «Люблю, Маруся, до ущему». Ну и на ту косится – разрывается. И оробел. Оно – понятно… Побыла я в Игарке сколько-то. Халупку сняли с ним, с законным, хоть и не венчанным, на три дня. Наговорились. И наплакались. В любви мне клялся, называл меня единственною… Ехать надо, возвращаться. Дома дети. Оставляла на золовку. Вернулась домой. Наобещал мне, глупой, – я и успокоилась немного. Опять мне весточки стали, как листья осенью с берёзы, сыпаться, дня без письма не обходилось. Потом опять – через неделю. Потом… Дождалась я кое-как, через всякое терпение, следующей навигации. Начало лета. Пошла к знающим людям, спросила, что мне лучше с собой взять. Те подсказали. Набрала я, по их доброму совету, черемши. Мануфактуры дорогой купила. И в путь отправилась знакомый. За черемшу и за кусок материи хорошей я и вернула себе мужа. А так бы там он и прижился. Такой был Миша – бабам нравился.