Слезы и молитвы дураков
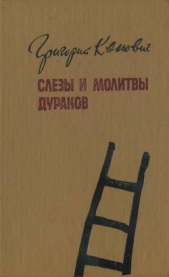
Слезы и молитвы дураков читать книгу онлайн
Третья книга серии произведений Г. Кановича. Роман посвящен жизни небольшого литовского местечка в конце прошлого века, духовным поискам в условиях бесправного существования. В центре романа — трагический образ местечкового «пророка», заступника униженных и оскорбленных. Произведение отличается метафоричностью повествования, образностью, что придает роману притчевый характер.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Разве упомнишь.
— А я помню.
— Ты что, тоже гасишь?
— Тоже, — ответил тот, кто назвался Ароном.
— Но ты же еврей?
— Еврей.
— Еврею грех гасить, — сказал Казимерас.
— Смотря какие свечи, — ответил тот, кто назвался Ароном, и слил из чугуна воду.
— Свечи все восковые… все одинаковые, — усомнился Казимерас.
— Только на столе.
— А где ж еще?
— Где еще? Вот здесь, — сказал тот, кто назвался Ароном, и ткнул себя в грудь.
— В сердце?
— В сердце, — сказал человек в ермолке. — Одну столько лет гашу и погасить не могу.
— Как же ты ее погасишь? — простодушно спросил Казимерас. — Сердце погаснет, и она погаснет, — добавил он и покосился на кровать, где храпел Рахмиэл.
— Она и тогда не погаснет, — тихо сказал тот, кто назвался Ароном, и разворошил кочергой угли.
— Что же это за свеча? — удивился Казимерас и заморгал суеверными глазами.
— Садись. Сейчас мы с тобой полакомимся, — перебил его тот, кто назвался Ароном.
— А Рахмиэл?
— Рахмиэл болен. Пусть отдыхает.
— Только… только молоко я не буду… Молоко для Рахмиэла, — предупредил Казимерас.
— Молоко и я не буду.
Они сели за стол и стали вылавливать из чугунка картофелины. Казимерас ел медленно, время от времени поднимал свои белесые, состоявшие как бы из одного белка, глаза, разглядывал потолок, качал крупной, как пень, головой и гадал, что же это за диковинная свеча, которая горит в сердце и которую нельзя погасить.
— Давно ты знаком с Рахмиэлом? — осведомился тот, кто назвался Ароном.
— Давно. Он меня к Маркусу Фрадкину и привел. Привел и сказал: «Господин Фрадкин! У него, — то есть у меня, — не легкие, а кузнечные мехи. Он любую свечу за сто шагов погасит!» Маркус Фрадкин поначалу Рахмиэлу ни в чем не мог отказать.
— Почему?
— За Арона, видно.
Казимераса так и подмывало спросить чужака, правда ли, что он и есть Арон, но он не решался. Спросишь и еще Рахмиэлу повредишь. В конце концов пусть разбираются сами, нечего ему, Казимерасу, в еврейские дела встревать. Он, конечно, Рахмиэлу по гроб благодарен, торчать бы ему где-нибудь в деревне или надрываться на лесоповале, но зачем злить Маркуса Фрадкина или сына корчмаря Семена. Семен сюда недаром прибегал, что-то вынюхивал, высматривал, выискивал. Будь чужак и Ароном, Рахмиэлу от этого какой прок? Явился, можно сказать, на похороны. Казимерас и сам старика похоронит, и даже помолится за него, пусть не в синагоге, пусть в костеле, за хорошего человека любому богу можно помолиться и бог не осерчает. Опоздал, Арон, опоздал…
— А где ты в рекрутах служил? — все же спросил Казимерас у того, кто назвался Ароном.
— На турецкой границе.
— Ишь ты! — чуть ли не с завистью воскликнул Казимерас. — А как они выглядят?
— Кто?
— Турки. Как евреи или как мы?
— Как евреи.
— И у них по субботам гасят свечи?
— А тебе что, к туркам захотелось?
— Вдруг судьба занесет. Тебя же туда занесло?
— Занесло, занесло, — нараспев повторил тот, кто назвался Ароном. — Куда только меня не заносило!..
— А я все время на одном месте сижу, — пожаловался Казимерас.
— Что же тебя держит? Свечи?
— Коза, — ответил Казимерас.
— Козу продать можно.
— Продать-то можно, но она без меня сразу и подохнет.
— Почему? Трава в другом месте не та?
— Трава-то та. Да ее только доить будут.
— А что с козой еще делать? — удивился тот, кто назвался пасынком Рахмиэла.
— Любить… Это человек без любви может… а коза — нет… Коза и года не протянет… сразу подохнет. — Казимерас помолчал и спросил: — Ты теперь с Рахмиэлом до конца будешь?
— До какого конца?
— Ну… этого…
— Не знаю, — сказал тот, кто назвался Ароном.
— Дела?
— У тебя одна коза, а у меня целое стадо…
— Но стадо… стадо… как же любить целое стадо?
Казимерас встал из-за стола, согнул указательный палец, поправил усы, кашлянул сухо, отрывисто, почти сердито.
— Если Рахмиэл до вечера не встанет, — сказал он, — я заменю его… В ночь на субботу и по праздникам я всегда сторожу за него…
— Сегодня не пятница, и до праздников еще далеко, — ответил тот, кто назвался Ароном. — Крышу бы надо починить. На голову течет.
— Надо бы, — буркнул Казимерас. — Да Рахмиэл не дает. Денег, говорит, на нее жалко. А гвозди, сам знаешь, нынче дороги. За горсть Спиваки ох, как дерут. Вернется, говорит, Арон, он и починит. Рахмиэл и деньги для него копит.
— Деньги для Арона? — оживился человек в ермолке.
Казимерас почувствовал, что сболтнул лишнее, и зачастил:
— Какие там деньги! Гроши! Дай бог, чтобы на похороны хватило. Хотя Рахмиэл не хочет лежать со всеми вместе. Лучше, говорит, отдельно… где-нибудь на огороде… А я говорю: лучше вместе… Вместе и под землей веселей. И потом все мертвые — братья. Нет среди них ни лесоторговцев, ни козопасов, ни ночных сторожей… все равны… И крыша одна на всех… и не течет… А он: нет и нет. Если Рахмиэл, не дай бог, умрет, что мне делать?
— Встать пораньше, подоить козу и принести молока, — сказал тот, кто назвался Ароном. — Принесешь и поставишь на стол. И каждый, кто к нему придет, будет смотреть на глиняную миску и думать о том, что все на свете не выпьешь.
Казимерас недоверчиво посмотрел на чужака, пожал плечами и не спеша зашагал к двери.
Тот, кто назвался Ароном, подошел к кровати, наклонился над спящим Рахмиэлом, уловил его дыхание, укрыл одеялом голые, торчавшие, как заржавевший семисвечник, ноги, прогнал надоедливую муху, кружившую над глиняной миской, и вышел из избы.
На дворе лило как из ведра. Все вокруг было перечеркнуто дождем. Только деревья стояли, как на панихиде, стойко и скорбно, да коза Казимераса мекала где-то под навесом.
В москательно-скобяной лавке братьев Спиваков никого не было, и человек в ермолке долго ждал, пока не появился хозяин, тучный, в пенсне на мясистом носу, с неторопливыми черепашьими движениями, сам похожий на черепаху. Он застыл за прилавком и вытаращил на покупателя свои сонные, увеличенные стекляшками глаза.
— Что еврею угодно?
— Еврею угодны гвозди.
— Христа распинать? — спросил Спивак и рассмеялся. Смех его рассыпался по прилавку, как сдача.
— Крышу чинить.
— А крыша у еврея есть? — Спивак снова засмеялся, только на сей раз сдача была покрупней.
— Есть. Но, как всегда, дырявая.
— Истинная правда! Истинная правда! — зачастил толстяк и запустил руку в ящик с гвоздями. — Как всегда, дырявая… Хорошо сказано… Отлично!.. Когда же, позвольте у вас спросить, у нас будет крыша как крыша?
— Когда-нибудь будет, — ответил тот, кто назвался Ароном.
— Когда евреев не будет? — съязвил Спивак и добавил: — Сорок копеек.
— Запишите на наш счет.
— На чей счет?
— На счет господа бога, — ответил тот, кто назвался Ароном, и стал ссыпать гвозди в карман.
— Ха-ха-ха, — загрохотал Спивак, — Любому нищему, любому голодранцу дам в долг, но господу богу? Ты слышишь, Хаим, — обратился он к кому-то невидимому, — господь бог берет у нас на сорок копеек гвоздей в долг. Ха-ха-ха! Слышишь, Хаим? У господа бога в кармане и сорока копеек нет? Ой, я умру со смеху! Ой, держите меня! У господа бога крыша прохудилась!.. Ой, я умру со смеху! Ой, держите меня! Хаим! Хаим! Ты слышишь?
— Господь бог воздаст вам и вашему брату Хаиму за каждый гвоздь сторицей, — сказал тот, кто назвался Ароном, и чинно вышел из лавки.
Смех Спивака преследовал его до самого Рахмиэлова овина. Он звенел, как сорок копеек, как сорок сороков гвоздей, и дождь был бессилен заглушись его.
Весь день до самого вечера тот, кто назвался Ароном, чинил крышу. Он весь промок до нитки, но сидел наверху и вгонял в доски гвозди. С каждым ударом топора он приговаривал:
— Господь воздаст сторицей… за каждый гвоздь… за каждую каплю пота и крови… сторицей… Смейтесь! Смейтесь!
Никогда еще он не был так близок к господу, как сейчас, сидя на крыше Рахмиэловой развалюхи и орудуя коротким, захватанным чужими руками, топором. До неба, вдруг прояснившегося и обретшего не осеннюю бездонную глубину, было рукой подать, и человеку в ермолке не хотелось спускаться на землю. Что он на ней не видел? Сорок лет, как сорок копеек, как сорок гвоздей… кому он их отдал? Куда вогнал?


























