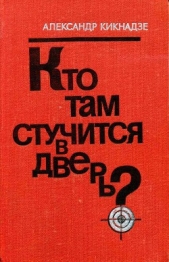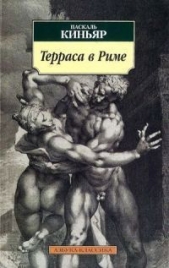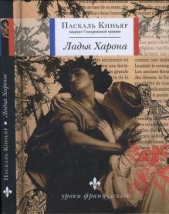Лестницы Шамбора

Лестницы Шамбора читать книгу онлайн
В долине Луары стоит легендарный замок Шамбор, для которого Леонардо да Винчи сконструировал две лестницы в виде спиралей, обвивающих головокружительно пустое пространство в центре главной башни-донжона. Их хитроумная конфигурация позволяет людям, стоящим на одной лестнице, видеть тех, кто стоит на другой, но не сходиться с ними. «Как это получается, что ты всегда поднимаешься один? И всегда спускаешься один? И всегда, всегда расходишься с теми, кого видишь напротив, совсем близко?» – спрашивает себя герой романа, Эдуард Фурфоз.
Известный французский писатель, лауреат Гонкуровской премии Паскаль Киньяр, знаток старины, замечательный стилист, исследует в этой книге тончайшие нюансы человеческих отношений – любви и дружбы, зависти и вражды, с присущим ему глубоким и своеобразным талантом.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Даже и теперь, тридцать, нет, сорок лет спустя, он зачарованно созерцал пароход, постепенно терявшийся в мокрых, мутных извивах того, что и туманом-то не назовешь. Наконец он покинул скрипучий причал из сырого дерева, такого рыхлого, что оно вбирало в себя влагу с его подошв. Он не забыл, как в детстве пять его сестер и трое братьев насмехались над этой неистребимой страстью к отплытиям, над этим маниакальным влечением, иногда вызывавшим у него рвоту или анорексию, к елейному дурману моря, к запахам моллюсков и жидкого меда, водорослей и нефти, которые притягивали или отвращали его точно так же, как запах мочи или дубовой коры некогда притягивал дубильщика или перчаточника. [39]Когда в 1951 году он вернулся больным из Парижа, то, несмотря на свой десятилетний возраст, постоянно слонялся в порту, а по выходным заставлял шофера возить его на дальние причалы, в Ховенен или на Фоссесштейн-страат. Там он забирался на борт какого-нибудь катера.
И целыми часами готов был наблюдать, как тот уходит вдаль, как ведут себя покинутые на берегу, и эти прощальные объятия и взмахи платками завораживали его не меньше, чем безразличие всего окружающего – морских птиц, всплесков воды под сходнями, бесстрастных приливов и отливов в реке и море. Внезапно ему пришло в голову название цветка. Он ненавидел воду, и все же что-то в ней привлекало его взгляд. То же было и с цветами: для него они являли всего лишь тайный язык, нелепую валюту и в то же время зачаровывали, пугали. Он резко обернулся. Нет, позади никого не было. Он ненавидел воду за ее гибельную приманчивость и холодное безразличие. Потому-то и не желал слушать рассказы Лоранс о брате, поглощенном водой. Той самой водой, что втянула его в канализационную трубу, где он мог кричать, лишь глотая эту черную вязкую жидкость, несущую смерть. Он устал ждать. Ему все чудилось, будто он только что расстался с девочкой, или потерял цветок, или забыл название цветка. И ему никак не удавалось вернуть эти лепестки, эти слоги. А наряду с именами цветов, наряду с цветами в канавке под изгородью, среди тощих стволиков куста были ведь еще и игрушки, были пасхальные, освященные в Риме подарки, укрытые среди примул, среди хвощей. [40]Эдуард поднял воротник пальто.
Ему было очень холодно. И он боялся встречи с тетушкой Отти. В море не осталось ни одного парохода. И горизонт тоже исчез. Он с нетерпением ждал, когда же она появится и они смогут наконец выпить чего-нибудь горячего. Всякая любовь на свете должна прежде всего источать тепло. У него застыли ноги, кончики пальцев на руках. Ноги его стояли на ржавых рельсах. Он передвинулся вперед, ближе к краю причала. И замер там, кутаясь, как мог, в свое зеленое пальто, на ветру, среди вагонов и подъемных кранов. Точно ящерица, точно крошечная саламандра, затаившаяся в зарослях гигантских папоротников и хвощей.
Он буквально оледенел, и его пьянило странное ощущение: это прибытие медлило с прибытием. Это прибытие было вечным отъездом, вечным уменьшением в пространстве. Пока что сюда пожаловал один ишь туман – нестойкое скопище бывших водяных капелек. В Антверпене он взял напрокат японскую машину. Проехал через Брюгге, прошел вдоль Дейвера, порылся в старых игрушках на грязных прилавках барахолки, трусливо сбежал от сорока семи колоколов брюггского собора. Ему представилось, как там, далеко в вышине, звонарь в кожаных перчатках, в теплых сапогах сражается с клавишами колокольного механизма. Он свернул на Лиссвеге. И вот уже два часа мерзнет в Зебрюгге, а уж как он ненавидел ожидание!
– Не забудь мне напомнить, чтобы я купила фишки для бриджа!
Она говорила это, обнимая его. Он вскрикнул, застигнутый врасплох, побагровев от стыда. Тетушка Отти уже здесь. У пристани стоял большой паром. Из его чрева выползали легковые машины, грузовики. Он в свою очередь обнял ее.
– Тетя… тетя…
– А ну-ка, малыш, помоги мне с багажом.
Схватив Эдуарда за руку, она сунула ему огромный чемодан в нейлоновом желто-зеленом полосатом чехле. Он растерянно воззрился на нее. Наконец-то он видит тетку, эту грузную женщину, такую резкую и такую ласковую, видит ее пухлые, мягкие щеки со слабым лимонным запахом, мешочки под глазами, сами глаза – точь-в-точь переспелые сливы, чья кожура лопнула на солнце, а из трещин выглядывают круглые, блестящие, зоркие птичьи зрачки.
Он отстранился и узнал теткин шиньон оттенка красного дерева: это сооружение, монументальное, точно старый манхэттенский небоскреб, внушительное, хотя, кажется, пустое внутри, тщательно окрашенное в огненно-рыжий цвет, прилизанное волосок к волоску, всегда, сколько он себя помнил, высилось над лицом тетушки Отти.
Она была облачена в желтый костюм из синтетической пряжи и блузку с розово-зеленым галстучком. С шеи свисала узкая фиолетовая бархатная ленточка, на которой болтался желтый кожаный футлярчик – в нем тетка всегда носила грошовую зажигалку; футляр то и дело подпрыгивал на ее бурно вздымавшемся бюсте.
Тетушка Отти уже достала свою пачку Belga и прикурила сигарету от зажигалки на ленточке.
– Скажи-ка, малыш, ты принес мой любимый белый шоколад?
– Ну конечно, тетя.
Эдуард поставил наземь чемодан, вынул из кармана пальто плитку в золотой бумаге и протянул тетке.
– Но разве ты не хочешь сперва пообедать?
– Еще успеется, благодарю. А в это время я всегда ем шоколад.
Дождь все не утихал. Тетушка Отти развернула прозрачную целлофановую косыночку в белый и черный горошек и прикрыла ею свой огненно-красный шиньон. Эдуард поднес чемоданы к машине, погрузил их в багажник Они тронулись в путь. Он вел машину. Они болтали.
– Мой супруг прямо-таки оброс мхом. Понимаешь, что я имею в виду?
– Конечно.
– Хотя, надо сказать, бывают прекрасные замшелости. Сморчки, например.
– Или бордоские белые грибы – тоже неплохо!
– Или трюфели. Или вот еще молодые лисички – чудесные замшелые малютки. И Евангелие… И фирма «Крайслер»…
– И семейство Фурфозов…
– Э нет, малыш, наша семья вовсе не замшела, она, конечно, перезрела, но мхом еще не обросла. Поэтому и не воняет, как некоторые. Мне кажется, скорее, семья Фурфозов издает тот самый изысканный душок, каким отличается сыр реблошон. Послушай, Вард, не будь злюкой. Ненавидеть нужно не то, что замшело, а лишь то, что окончательно мертво. Вещи, которые воняют, конечно, недалеки от смерти, но пока еще в них кипит жизнь…
Если не считать чисто английской, вернее, американской интонации, его имя прозвучало в ее устах совсем по-фламандски – Вард. И это внушило ему неожиданный, почти комический восторг: он любим. Тетка опустила ладонь на его кулак, сжимавший ручку скоростей. И тихонько сказала:
– Вот мы и опять вместе, малыш. Давненько не виделись.
Эдуард молча стиснул зубы. Его тело пронзила дрожь; казалось, она достигла сердца, жестоко сотрясла сердце. Он вновь почувствовал нежную шероховатость пальцев тетки, это противоречивое – и сухое, и бархатистое, и жесткое – касание на своей руке, обхватившей рычаг.
Но в тот самый миг, когда Эдуард судорожно сглотнул, борясь с подступившими слезами, тетушка Отти убрала руку и спросила совсем другим голосом, бодрым, энергичным голосом Нового Света, одновременно прикуривая очередную Belga от висевшей на шее зажигалки и стряхивая тлеющую крошку табака с юбки своего ядовито-желтого синтетического костюма:
– Ну-с, а как поживают твои миниатюрки?
Они сидели в ресторане, возле двери, которая непрестанно распахивалась, тренькая колокольчиком и ударяясь о спинку стула Эдуарда. Эдуард пытался описать тетке дом в Шамборе, берега Коссона, спешные строительные работы. Но ему никак не удавалось подобрать нужные слова. Он предпочел бы просто показать ей «Аннетьер» без всяких объяснений, но тетка нетерпеливо требовала рассказа. Ему казалось, что он понапрасну сотрясает воздух: так фермерша усердствует над бадейкой с молоком, пытаясь сбить масло. Скоро тетушке Отти надоело его слушать, и он умолк. Тетушка Отти заговорила о своей жизни. Поедая кусок пассендаля, она не оставила камня на камне от Сиракуз, истребила всех музыковедов на свете и безжалостно расценила последние пятнадцать лет, прожитые в Америке, как пропащие. Эдуард Фурфоз внимал ей благоговейно, точно верующий – своему божеству. Тетка была тучной женщиной с пухлыми брыластыми щеками. Ее морщинистая, обвисшая, как жабо, шея напоминала шеи кондоров в Андах, да и светлый взгляд отличался хищной, ненасытной ястребиной зоркостью.