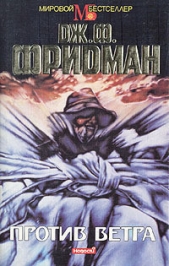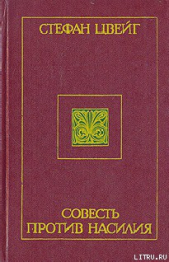Тоже Родина

Тоже Родина читать книгу онлайн
Андрей Рубанов — писатель резкий, наблюдательный, острый. Он уже известен читателю как автор нескольких блестящих и нашумевших романов — «Сажайте, и вырастет», «Великая мечта» и др., — бьющих в самые болевые точки современной российской действительности.
«Тоже Родина» — первая книга рассказов Рубанова, в которой он описывает и оценивает сегодняшнее время как человек, пропустивший его через себя, подобно фильтру, оставляющему на выходе чистое вещество жизни.
"Рубанов умеет брать читателя за глотку и держать цепко и уверенно столько, сколько нужно" Захар Прилепин
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Я не «гонял». Утратил саму потребность о чем-либо беспокоиться. Вспоминать прошлое не хотелось. Гадать о будущем — тоже. А тем более — его, будущего, бояться. Даже мысли о семье не приносили душевных страданий. Очевидно, если я без особенных проблем выживаю в тюрьме, то там, на свободе, жена и сын выживут тем более.
В какой-то из дней нам устроили шмон, выгнали всех на продол, и пахнущие кирзой и перегаром кумовья оборвали занавески, прикрывающие отхожее место. Тряпки и веревки, наподдавая их носками берцев, выкинули за дверь. Еще месяц назад такой демарш вызвал бы у меня приступ гнева или даже особенной пенитенциарной истерики, когда арестант катается по полу и воет «а-а-а, бля, ненавижу!!!», — сейчас я ничего не ощутил и пульс мой участился вряд ли. Тратить нервную энергию на пустяки показалось унизительным; нельзя же ненавидеть ветер за то, что он сбивает с головы картуз; едва тормоза закрылись, мы в полтора часа все восстановили в лучшем виде.
Вскоре я сократил время медитаций до минимума. Азарт, с которым я открыл для себя свое новое умение, нивелировался, сошел на нет, уступил место стойкому навыку. Лишь иногда посещало веселое недоумение: как это я жил без этого раньше? Достигнутый уровень сознания ничем не напоминал алкогольную или наркотическую эйфорию. Тот кайф непременно хотелось усилить, первая рюмка всегда требовала второй, первая марихуановая затяжка — второй затяжки. Здесь отсутствовало само желание какой-либо эскалации. Все происходило само собой. Несло и кружило.
Ел мало. В карантине кормили не то чтобы хорошо, однако лучше, чем на общем корпусе, а может, нам, как недужным, полагался какой-то усиленный паек; я нормально наедался. Обычно жрал дважды в день, утром пайку хлеба с чаем и сахаром, а вечером «болты» — перловую кашу; превратить ее в съедобный харч можно было, тщательно промыв кипятком и заправив подсолнечным маслом. Сколько себя помню, я всегда ел очень быстро, глотал, почти не жуя — а тут внезапно понял, что мне нравится сам процесс. Уже не заталкивал в себя полными ложками, а смаковал. Трапезовал, неторопливо пережевывая, по целому часу.
«Болты» не нравились только грузинскому крадуну Бачане, он выглядел, как паренек, очень любивший покушать. У него были покатые плечи, животик и внушительный жирный зад. Подозреваю, что он и воровать пошел только для того, чтобы поменьше напрягаться, побольше спать и кушать сациви и лобио. Он ел «болты» вместе со всеми, но ворчал. Впрочем, беззлобно.
— Баланда — она и есть баланда, — однажды возразил ему я. — Кстати, перловая каша, сваренная на воде, — любимый завтрак английской королевы.
Бачана засопел.
— Тогда, — сказал он, — пусть она приедет в гости и почифирит с нами.
Посмеялись, я — громче всех, поскольку пребывал в хорошем настроении.
В следующую секунду мне стало немного не по себе. Замерцало в глазах. По картинке мира пробежала мелкая быстрая рябь. Закружилась голова. По позвоночному столбу прошло электричество. Необыкновенно расслабились мышцы лица, и челюсть самопроизвольно отвалилась. Звуки — чавканье набитых ртов, постукивание алюминиевых и деревянных ложек по дну шлемок, слабое гудение и потрескивание неисправной лампы под потолком, журчание воды в параше — отодвинулись, прочувствовались как ненастоящие, и вдруг сквозь их завесу проступил настоящий, единственно подлинный и самый важный, никогда раньше мною не слышанный звук: легчайший нежнейший шелест, или перезвон, как будто поколебались миллионы маленьких колокольчиков, слаженных из самого драгоценного из всех драгоценных металлов; звук абсолютно ненавязчивый, однако сразу заставивший меня забыть обо всем и слушать только это упоительное стрекотание. Вот оно стало громче, и еще, и еще, вот наполнило всего меня, дружелюбно предлагая моему «я» завибрировать в унисон; перестав сопротивляться и сомневаться, я внял, совпал, понял что-то ошеломляюще важное и тут же забыл за абсолютной ненадобностью. Мир танцевал вокруг меня и вместе со мной, танцевали бледные лица сокамерников, и темно-зеленые стены, и двухъярусные шконки, танцевала даже грязь под моими ногтями; вся тюрьма танцевала, и весь живой мир вокруг нее, но не только он: даже мертвые, на той стороне, танцевали, включая и мальчишку, умершего от менингита три недели назад. Может быть, он танцевал наиболее искусно и весело, ведь именно его бестолковая гибель привела меня туда, где я услышал то ли шелест ангельских крыльев, то ли старческое сопение притомившегося бога, то ли попукивание слонов, державших на своих натруженных спинах плоскую Землю. Все обессмыслилось — и в тот же неуловимо краткий миг наполнилось миллионом смыслов. Желания исчезли, все, кроме одного — единственного желания: и дальше присутствовать сознанием при саморазвертывании чуда жизни. Собственное тело, некогда доставлявшее столько хлопот и страданий, предстало несложным, а главное — полностью управляемым механизмом. Кровь бежит по артериям, печень копит грязь, почки собирают влагу, желудок варит топливо, мозг рулит и командует.
Потом ощущение пропало, исчезло, как не было. Опять прочно сомкнулась вонючая, полутемная, зарешеченная, пропитанная страхом Вселенная, оставив в невесомой пустой голове внятную догадку: а вдруг основанием для всякого, хотя бы и временного, благоденствия человека, или группы людей, всегда является чья-то смерть?
Кто, как не мертвые, держат на своих плечах наш покой, нашу сытость и наше равновесие?
Ведь должен же быть (блядь, обязан быть, иначе нельзя!) какой-то смысл в гибели восемнадцатилетнего мальчика, укравшего сумочку у некоей дуры, чья рука, может быть, и не дрогнула, сочиняя в милиции заявление о краже?
Все хорошее кончается, и это кончилось. Продолжалось, может быть, не более полуминуты. Но мне хватило.
Впоследствии размышления о смысле смерти показались мне не более чем рафинированной демагогией. Наверное, все размышления в конечном итоге превращаются в рафинированную демагогию.
Потом был странный, удивительный вечер. Солнечный свет не попадал в нашу хату никогда, но я чувствовал его желтые закатные лучи кожей, они грели меня, проникая сквозь стены и перекрытия. Раскрыл было книгу, хотел читать, но буквы, слова, фразы показались убогими, неспособными выразить тысячной доли сокрытого смысла. Семнадцать сердец бились рядом со мной — я не только слышал их все, но и различал ритмы, проникся героиновой тахикардией грузинского крадуна Бачаны; улавливал, как надпочечники Малыша выкидывают в его кровь адреналин. Я слышал, как стучат когти крыс, бегающих по тюремным подвалам. Я знал, что у вертухая, который дежурит этажом выше, болит зуб, коренной, третий справа, в нижней челюсти. Я ощущал беспокойство охраняемого этим вертухаем арестанта икс, ему светило три года за хранение и сбыт краденого, а под коленным сгибом у него имелся большой фурункул, мешающий ему передвигаться, карабкаться на подоконник и сиплым басом звать меня.
Используя радиатор отопления как ступеньку, я ухватился руками за решетку, силой бицепсов подтянулся и напряг слух. Увидел спускающийся груз, зацепил, втащил, отвязал, развернул, прочел. Братья из родной сто семнадцатой прислали запрет. Что за запрет, удивился я, осторожно распарывая бритвенным лезвием тугой полиэтиленовый кулечек; пригодилась и книга, которую полчаса назад я пытался читать, я вырвал из нее страницу и высыпал туда щепотку зеленой травки.
Мои друзья помнили меня и прислали, для облегчения страданий, дознячок конопли.
Тут же я завернул ее плотно и спрятал в трусы, от греха, а ближе к полуночи достал, забил косяк и выкурил в компании матроса Мальцева.
Все вокруг меня и внутри меня говорило, что не надо курить эту гадость. Все, да не все. Травка на тюрьме — лучший способ отдыха, валюта, лекарство номер один, отдохновение нервов. Я покурил, поразмышлял, помечтал и уснул. Спал крепко и долго. А наутро очнулся с ощущением поражения.
Молился, но не был услышан. Час провел в медитации — бесполезно. Навыки, приобретенные за три недели интенсивной практики, оказались утраченными безвозвратно. Подавленный, вялый и растерянный, я бродил, ища в себе остатки того, что еще вчера переполняло меня, мысленно просил у бога веры, а у космоса энергии, но все ушло, исчезло, истина отвернулась от меня. Вчера я летал, сегодня сверзился на дно. Остались стыд, горечь и досада.