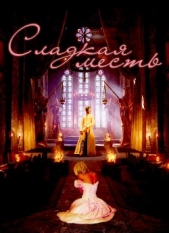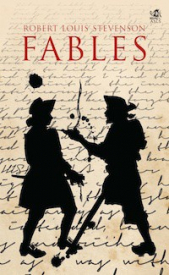Bambini di Praga 1947

Bambini di Praga 1947 читать книгу онлайн
Всемирно признанный классик чешской литературы XX века Богумил Грабал стал печататься лишь в 1960-е годы, хотя еще в 59-м был запрещен к изданию сборник его рассказов «Жаворонок на нитке» о принудительном перевоспитании несознательных членов общества на стройке социализма. Российскому читателю этот этап в творчестве писателя был до сих пор известен мало; между тем в нем берет начало многое из того, что получило развитие в таких зрелых произведениях Грабала, как романы «Я обслуживал английского короля» и «Слишком шумное одиночество».
Предлагаемая книга включает повесть и рассказы из трех ранних сборников Грабала. Это «Жемчужина на дне» (1963) и «Пабители» (1964) с неологизмом в заглавии, которым здесь автор впервые обозначил частый затем в его сочинениях тип «досужих философов», выдумщиков и чудаков, а также «Объявление о продаже дома, в котором я уже не хочу жить» (1965).
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Наконец-то! Я бы на все согласилась, но только чтобы вместе. Чтобы не надо было одной мотаться по провинции. Хватит с меня одиночества и пустоты!
— Да уж, наобещать пан управляющий умеет! Перспективы рисует — просто дух захватывает. Он нам всем не раз прекрасное будущее сулил! Романтик, что с него взять…
— А я-то ему поверила.
— Если вам скажут, что сегодня четверг, вы согласитесь, но все-таки заглянете в календарь…
— Значит, в понедельник мне ехать одной? Чтобы опять читать в Летограде лекции на тему: «Незаменимый пятновыводитель „Радуга“»?
— «Радуга». Где вы там ночуете?
— В маленькой комнатке за сценой, в комнатке, которая в субботу и воскресенье служит театральной гримерной. Да нет, это вполне сносно. Так мило спать среди зеркал и столиков с помадами и париками! В последний раз, когда я там ночевала, они репетировали «Казарму города Уезд», а я легла на диванчик и чувствую — шпилька колет, так я приоткрыла дверь и в темноте смотрела на крохотную сцену, там стояла влюбленная пара, понарошку влюбленная, и режиссер репетировал с ней любовный дуэт… и пианино бренчало, а эти двое пели: «Возле Петршина казармы стоят, при виде формы глаза девичьи блестят… вечер спускается, горн трубит, в уголке укромном парочка сидит…» — пропела Надя.
— Какая же у вас память!
— Они добрых два часа репетировали, — засмеялась девушка. — А потом началась такая умора! Представляете, стоят на сцене шестеро парней, в руках — тросточки с серебряными набалдашниками, на головах цилиндры, и режиссер до самой полуночи безуспешно учит их в такт песне задирать ноги, как девочки в варьете, и одновременно поднимать тросточки и под музыку кокетливо так прикасаться пальцем к щеке… при этом они еще пели «Целовал я Минку, прижимал к груди, а теперь печаль лишь ждет нас впереди…» Они мучились, путались, из сил выбивались, а я лежала себе возле полуоткрытой двери и водила рукой по грязному полу…
— Хорошо-то как, — сказал Тонда, — жалко, что я не могу поехать с вами в Летоград.
— А почему не можете? Поехали вместе. И вообще — давайте начнем новую, совершенно другую жизнь. У меня для нас обоих припасена золотая жила…
— И что же это за жила?
— Она называется «Крылья родины». Мы с вами будем ходить по разным конторам… и по частным тоже… и убеждать их заплатить за право записаться и поставить свою печать в красивую книгу с надписью «Крылья родины», чтобы через год-два за эти деньги можно было купить самолет и подарить его от имени народа солдатам.
— За какой процент?
— За десять, — сказала она, и глаза у нее загорелись, — и еще объявления. Главное управление по ценам намерено издать толстое справочное пособие для лиц, занимающихся национализацией. Посвящено оно будет налоговой политике. И треть книги займут рекламные объявления. А собирать эти объявления будем мы с вами, — она ткнула пальчиком в Тонду, а потом взяла его за лацкан и зашептала: — Вот приходим мы в комитет по национализации и спрашиваем: «Где ответственный за национализацию?» А секретарь говорит: «Как о вас доложить?» А мы отвечаем: «Главное управление по ценам.» И к нам тут же выскакивает бледный и нервный ответственный за национализацию, потому что кто же из них не испугается Главного управления по ценам? И мы ему объясняем, что хотим поговорить по поводу справочника, в котором будут советы по установлению величины налогов… и большое ли он хочет поместить рекламное объявление? На одну восьмую страницы? На четверть, на половину? И он заплатит, к примеру, за объявление в полстраницы, потому что обрадуется, когда поймет, что мы не ревизоры. А с каждого такого объявления нам пойдут тридцать процентов… Лишь бы я не была больше такой одинокой, понимаете?
Она подняла на него глаза, и Тонда увидел искреннее личико, обрамленное прической, в которой запутались лунные лучи. Он прижался щекой к ее лицу, длинные волосы струились по его руке, сквозь стеклянную стену теплицы он смотрел туда, где кончался огород: в парк. Там в кроне дерева сидели на ветвях четверо мужчин и глядели в освещенную комнату.
Одной рукой каждый из них держался за ветку над головой, а другой сжимал рюмку.
— Господа, — сказал надзиратель, — женщины способны на великое чувство. Пани Машу сначала привезли с перерезанными венами в больницу, а когда все у нее зажило, отправили к нам, потому что любой суицид — это же своего рода дискордантность. Ну, эти «Крон Бразерс» и дают! С ума сойти! Я чуть с ветки не свалился! С помощью психоанализа мы распахнули сердце дамы. Несчастная любовь, вот что это такое! — вскричал надзиратель, и все снова устремили взгляды в комнату, где сидела на стуле красивая женщина, неподвижная, как статуя, и курила одну сигарету за другой, так что ее колени уже покрывал слой пепла.
— Эх, пережить бы мне такое хоть еще разок, — вздохнул управляющий. — Любовь, как взрыв! Все деньги за это готов отдать! Даже помереть в желтом доме согласен… А в кого же она влюбилась?
— В трамвайщика.
— В трамвайщика?
— В трамвайщика. Супруга пражского адвоката, женщина, которая свободно говорит на трех языках и имеет степень доктора за труд по эстетике, мать двоих детей влюбилась в парня, переводящего трамвайные стрелки. Мы позвали сюда ее мужа и деликатно сообщили ему об этом. И пан доктор, адвокат, сказал нам: «Я давно об этом знаю. Когда этот человек бросил мою жену, я пошел к нему и на коленях умолял ради моего семейного счастья продолжать прелюбодействовать с моей женой. Но он сказал, что не хочет, что моя жена ему разонравилась и что он уже соблазнил учительницу гимнастики», — рассказывал надзиратель, и все представители «Опоры в старости», держась одной рукой, еще больше наклонились вперед, пытаясь постичь эту недвижную женщину.
Ветки красного бука касались ее окна, и, когда повеял ветерок, дерево постучало в стекло, но пани Маша не услышала стука, и сигаретный пепел все осыпал и осыпал ее колени.
— Мужчины, когда влюбляются, писать чаще всего начинают, — сказал надзиратель. — Ой, снова чуть не слетел. А все потому, что я страдаю головокружениями. Это началось после того, как больной Глоуцал, который десять лет каждое утро застилал свою постель, надевал шапку и так и стоял весь день до вечера возле кровати, здорово меня провел. Идет как-то профессор со свитой своих учеников и рассказывает всякое разное о пациентах, и вот они вышли, а я иду самым последним, и тут этот Глоуцал со страшной силой отрывает от стены приделанный к ней столик и разбивает его о мою голову со словами: «А это тебе от архангела Гавриила!» Меня только через полгода выписали, чтобы дома долечивался. Так вот, потерялся у нас однажды пациент, ночь тогда тоже ветреная была, бурная… всюду мы его искали, и здесь, в парке, конечно, и вдруг слышим — удары какие-то с этого вот самого бука доносятся. Посветили мы фонариком и увидели, что как раз на этой ветке висит наш пациент, а рядом с ним, прямо как эта вот корзинка, висит на веревке чемодан, и чемодан этот качается от ветра и стучит о ствол. Сняли мы все это, открыли чемодан и обомлели. Чемодан был набит школьными тетрадками в линеечку, и на каждой такой линеечке написано было только «Люблю тебя, люблю тебя…», пять миллионов раз одни и те же два слова, как будто это писал мальчишка, которого учительница оставила после уроков… слова эти ползли из чемодана, как миллионы муравьев…
Со стороны главного здания кто-то приближался неверными шагами, и любопытный луч электрического фонарика освещал кроны деревьев, подобно киноаппарату, бросающему конус света в темный зрительный зал.
— Кто там? — позвал голос, когда фонарик осветил группу мужчин на ветках красного бука.
— Спокойно, Франц, это я, — ответил ослепленный надзиратель.
— Я Франтишек, а никакой не Франц! Что вы там, именем закона, делаете?
— У нас пикник, — объяснил управляющий.
— Именем закона слезайте вниз и приготовьте ваши документы! — приказал голос сторожа. — Не то я вас застрелю!
— Полезли, а то еще и вправду пальнет прямо с бедра, — сказал Блоудек и с легкостью стал спускаться с ветки на ветку.