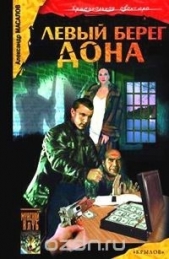Левый полусладкий

Левый полусладкий читать книгу онлайн
«Левый полусладкий» — очень неожиданная, пронзительная вещь. Это сага о любви — реальной и фантастической, скоротечной и продолжающейся вечно. Короткие истории таят в себе юмор, иронию, иногда сарказм. Как знать, не окажутся ли небольшие формы прозы Александра Ткаченко будущим романом в духе прошлого и грядущего столетия?
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Новую партию привезли в пяти коробках из-под «Филипс». Около пяти тысяч белых мышей сидели понурив головы. Один спал прямо на ружье. Под утро на дворе базы снабжения стола Первого Лица началась разгрузка. Вскоре вновь прибывшие уже растворились среди бывших в виварии. «Двадцать из новеньких на пробы закусок», — кто-то прохрипел в мегафон сверху. «А как их отличишь от старых тварей?» — «У каждой новенькой на заднице выжжена красная звездочка, эти, блядь, коммунистки не подведут…» Новенькие вели себя довольно организованно — «пятая, двенадцатая, шестьсот сорок седьмая, две тысячи пятьсот первая и я выходим на пробы закусок, при появлении рвоты, тошноты, головокружения терпеть, держаться на морально волевых до возвращения, помните, чему нас учили в спецкомвольере, главное — выработать в себе иммунитет к пищевым ядам и прочим, даже мышьяк и цианистый калий не должны сбивать нас с ног, и тогда наша судьба и судьба Первого Лица будет в наших руках». Стол Первого Лица снабжался продуктами отовсюду. Начальник стола Первого Лица имел право заказывать дыни из Туркмении, клубнику из Майами, угрей и сметану из Прибалтики, местная промышленность взбивала сливки и масло, и каждая бутылка кефира доставлялась из столицы края на персональной машине… Но нежелательные ферментные соединения тревожили окружение Первого Лица. Наконец, возможна просто диверсия…
Мышки доверчиво уходили в протянутые людские руки и возвращались не скоро, повалившись на пол, наетые, здоровенькие, и засыпали с мощным храпом, суча во сне красными лапками. А в это время другая новенькая называла очередные номера уходящих на пробы первых блюд, вторых… И так все повторялось. Под вечер приводили с проб спиртных напитков. Мыши были вумат пьяные, базарили, хвастались, становились нахальными, пьяненькие мышки приставали к мышатам, пытаясь затащить их в уголок для траха, а каждая бригадирша курила еще и хорошие сигареты и пахла хорошими духами, анашой, винами и кремами для кожи. Старожилы затихали, забивались подальше от новеньких, понимая, что их время прошло. Иногда кто-то не возвращался. Это означало, что он (или она) отравился и этим самым спас Первое Лицо от поноса, а может быть, и от самой смерти. Поэтому оттуда, с воли, доносились траурные марши торжественных похорон и выстрелы в небо почетного караула. Так по приказу Первого Лица благодарилась верноподданническая смерть. Родственникам его давался в вечное пользование надел подвального помещения недалеко от Старой площади, где хранились продукты Первого Лица, и весь род погибшей белой получал звание простой полевой серой мыши с правом передачи звания по наследству. Но новая партия прибыла с явным заданием работать против Первого Лица. Эта идея давно овладела мышиными массами, сразу после второй военной компании, когда качество продуктов было ужасным, и белые мыши просто гробами валились после пробных трапез. И тогда в центре местного ГУМа, у фонтана, над скопищем мышей встал на скрещенные руки товарищей один из бунтарей и произнес: «Доколе…» Он тут же был срезан шальной пулей охраны, и вот здесь началось самое главное. «Нам погибать от еды — это еще ладно, но от пули белым мышам умирать не пристало», — завопили толпы возмущенных. Зеваки плевали по сторонам, потягивали пепси и кадрили мышек с длинными ножками. Бунт был подавлен, но с тех пор в племени научных белых мышей стал накапливаться протест и зрела мысль о покушении на жизнь Первого Лица.
Партия новеньких мышей прибыла из-за границы. Импортные. Правда, проверенные на детекторе лжи и английской говядине. Поэтому сомнений не вызывали. Но когда однажды после одной из успешных проб к вечеру после обеда Первое Лицо так с кровью просрался на глазах у всех лекарей, поваров и секретарш, что, успокоив его разговорами о якобы специально подмешанном слабительном для профилактики, окружение сильно задумалось о качестве партии новых мышей, поставленных в виварий за несколько миллионов долларов из-за бугра. Но факс, пришедший от поставщика, успокоил всех: «Да вы шо, сам папа римский, Американский президент, генсек Северной Кореи, Джек Николсон, Мадонна и сам Чубайс, понимаешь, — клиенты нашей компании…»
Но мышки тихо праздновали победу. Они вплотную приблизились к тайнам жизни Первого Лица. Они поняли, что они кое-что могут. Правда, какой-то стукачок испортил праздник. Десяток мышей были вызваны наверх и после допросов и пыток их просто по-человечески расстреляли. С тех пор все затихло. Новенькие ушли в подполье. Иногда к ним в обиталище попадали обрывки газетных полос с фотографиями Первого Лица и текстами, то славящими его, то проклинающими. Но их интересовала только собственная месть и собственное племя — они ползали по его лицу, изучая каждую складку и морщинку, заглядывали в рот и глаза, отгрызая от ненависти и лени уши и ноздри, все больше и больше заражаясь стойкой непримиримостью к Первому Лицу. Наконец поступили сведения, что завтра ему будет подсыпана в его любимую толченую картошку со шкварками огромная доза мышьяка, чтобы убить его наверняка. «Это решение революционного комитета», — металлическим писком молвил тщедушный мышонок с бородкой и явными признаками туберкулеза. «Кто поедет добровольно? Нужно снять пробу, не умереть, добраться до постели. Наши реаниматологи уже предупреждены». Несколько рук взлетели вверх. «Пойдет не самый сильный, а самый верный нашим идеям. Это тоже решение революционного комитета, вот так-то», — сказал все тот же мышонок и, подбросив пачку долларов вверх, прострелил ее насквозь.
Доброволец вернулся, синея на глазах, но вернулся и тут же в постели на руках у любимой жены скончался. «Мы не можем держать труп среди нас, мы должны разделать его и съесть. Это тоже решение революционного комитета», — сказал тщедушный с бородкой и прострелил еще одну пачку зеленых. «Затем мы все умрем, всем комитетом, поскольку наш товарищ принял смертельную дозу, но и вы должны нас съесть. — Он осмотрел притихших белых мышат и продолжил: — Вы будете поедать мертвых до тех пор, пока наш народ не перестанет умирать от мышьяка, поступившего сверху в теле нашего героя. Итак, мы скроем наше преступление, вернее, наш подвиг. И это тоже приказ…»
Так оно и было в тот трагический вечер. На несколько дней мышей перестали вызывать на пробы. На обрывке одной из газет они увидели огромный портрет Первого Лица в черной траурной рамке. Они сумели прочитать только диагноз: атеросклероз, коронарная недостаточность, кровоизлияние…
«Врут, все врут, мы-то знаем, отчего он умер. Ура, да здравствует свобода и демократия. Даешь новую конституцию с правами белых мышей!..» Всю ночь продолжалось гулянье, отсыпались двое суток.
А через несколько дней сверху снова протянулась рука и мыши услышали: «Давай десяток этих сучек на пробу закусок». Мыши не поверили своим ушам. Но назавтра к ним случайно залетела первая страница самой известной в стране газеты. И на ней была напечатана фотография неизвестного самоуверенного мужчины с наглой улыбочкой, злыми рыбьими глазами и сверкающей лысиной под уложенными парикмахером редкими волосами. Это была фотография нового Первого Лица.
Двадцать пятое удовольствие
Уезжал я как-то из Америки. В начале девяностых, еще когда у нас на родине в России фирменные кроссовки запросто могли отрубить вместе с ногами. Тогда дефицит был на все. На джинсы, на компьютеры. На все. Скупился я за два дня до отлета из Нью-Йорка по полной программе. Ну все учел: и жене, и сыну, любовницам и секретаршам — особ статья — доволен. С двумя пакетами в двух руках я брел по Бродвею и думал элегически: значит, так, этому это, этой то, тому то-то, а себе… Посмотрел на себя: да я же обновил гардероб по ходу, начал с галстука в Бостоне, а потом под него все и подобрал — и пиджак цвета табак, и черную рубаху, и слаксы — правда, в Китайском квартале, но кому это у нас нужно. Так что я в полном порядке. Но что же еще. Чего-то главного не хватает. Я сунул руку в карман. Там осталось долларов двадцать, американских рублей. Ну что еще… Франк завтра отвезет в аэропорт. Бреду по Бродвею и думаю: «Чего-то не хватает, ну чего. Эх, чего-то такого. Сексуально-эротического…» Как будто на Родине не хватает. Но здесь в их Америке — это совсем другое, в другой упаковке. Хотя и боязно — представитель как-никак великой страны должен думать о величии покинутой на несколько недель Родины, ностальгировать, а я все о том же, как тот солдат в анекдоте. А ведь главное не в том, что ты ходишь по Бродвею, а в том, чтобы приехать домой и рассказать об этом, так это незначительно бросив: «Да когда я был последний раз в Штатах, то…» И здесь выдавалась такая примочка, от которой все причмокивали и балдели. Я всегда переоценивал себя, свое отношение к американцам, жалел их, особенно бедных или уехавших из Москвы, а на самом деле они жалели меня и смотрели как на идиота. Помню, зашел я в книжный магазин «Море» на Брайтоне, набрал себе Гумилева, Бродского, Ходасевича, Ахматову и так бережно это держу на руках и бочком высматриваю еще кое-что, но замечаю, что продавщица как-то странновато смотрит на меня. Когда я подошел расплачиваться, она спросила: «Вы шо, из Москвы?» — «А как вы поняли?» — «Да видно сразу — у нас никто так не хапает сборники поэзии, сразу все, как в последний раз. И вы живете теперь тут?» — «Да нет, я приехал на пару недель». Она передала мне чек на тридцать пять долларов. «И шо, вы возвращаетесь?» — «Да, а что? Я живу там, на Преображенке». — «И вы возвращаетесь?» — «Да», — повторил я. «Вы шо, сумасшедший?»… Я уже повернулся к выходу. Она снова спросила меня: «Нет, вы шо, серьезно? Вы возвращаетесь?» Я кивнул головой. «Дайте я вам пересчитаю…» Она вернула мне чек, на котором стояло теперь уже двадцать три доллара.