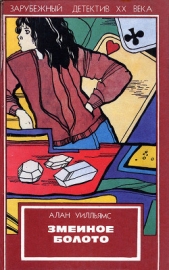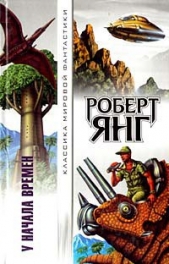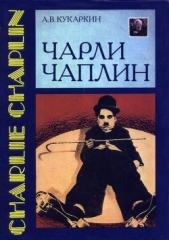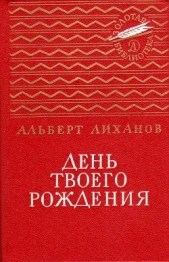День сардины
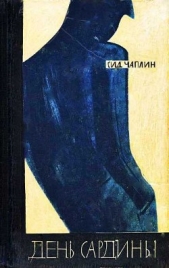
День сардины читать книгу онлайн
Сид Чаплин родился 20 сентября 1916 года в небольшом городке Шилдоне на северо-востоке Англии, в простой шахтёрской семье. Детство и юность отразились на всей его последующей литературной деятельности. Семья жила небогато, с детства Сид видел вокруг себя нищету, беспросветный труд, бесконечный страх безработицы. В 14 лет он начал работать. Был помощником шахтёра, кузнецом, но страстно желал учиться. Окончив вечернюю школу, Чаплин начал сотрудничать с газетой «Уголь», писать очерки, рассказы. Он работал в основном в жанре так называемого «рабочего романа». После второй мировой войны в британской литературе возник жанр, который назвали "рабочий роман". Английский писатель Сид Чаплин (1916–1986) является наиболее известным представителем этого жанра.
В своих произведениях Сид Чаплин поднимал острые социальные и философские вопросы современности. Непростые психологические и социальные вопросы решают герои романов «День сардины» (1961) и «Соглядатаи и поднадзорные» (1962) — молодые люди из рабочей среды, современники писателя.
В своем нашумевшем романе "День сардины" (1961) Чаплин повествует о судьбе современных английских тинэйджеров, "поколении икс", как его называли в 60-х гг. Главный герой романа Артур Хаггерстон ощущает себя сардиной, запертой "жестянкой" стандартного существования. Герой за свою 17-летнюю жизнь успел побывать и учеником пекаря, и грузчиком, и помощником угольщика…
По настроению и по герою книга напоминает "Haд пропастью во ржи". Только этот подросток — англичанин. И тоже не знает, как себя вести с девушками, чего он ждет от жизни, как учиться и работать, кто его друзья, а кто — нет. Стычки с отчимом, искренне желающим ему помочь, полукриминальные дела его полудрузей, работа на тяжелом производстве — серые дни друг за другом. И в конце прояснения нет. Но книга какая-то светлая, хотя и облачная. Хорошо, когда люди рождаются думающими, а не как один из героев Носарь — с одной мыслью в голове. Хотя это нелегко для них самих.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Что у тебя на шее?
— На балконе всю ночь провисел.
— А ну, не хами, говори, откуда это у тебя? Что ты натворил?
Но это только, так сказать, краткий стенографический отчет. Такая уж у нее манера — задать десять вопросов, чтоб получить один ответ, да и то не обязательно.
— Ссадил на работе.
— Но когда ты уходил в кино, этого не было.
— Такие ссадины не сразу видны.
— Ответь мне хоть раз по-человечески! Всегда ты что-то скрываешь, никогда правды не скажешь. Тебе лишь бы от меня отвязаться.
— Ну вот, пошло-поехало; вечно ты все хочешь узнать, на тебя не угодишь.
— Я имею право все знать — мать я тебе или нет? Ты с кем-то дрался. А потом, чего доброго, окажется, что у вас там поножовщина идет.
— Да оставь ты меня в покое, мама.
Она решила, что я готов сдаться, и быстро сказала:
— Оставлю, когда узнаю правду.
— Правда такая штука — гляди, тебе же хуже будет.
— Я стольким ради тебя жертвовала. И вот благодарность! Сын растет бандитом. Ну нет, я тебя не выпущу, пока все не узнаю.
— Ты упряма, как осел.
— Что ты сказал? Ну-ка, повтори!
— Сказал «как осел». О-с-е-л, ясно? Почему ты не хочешь оставить меня в покое?
И кто меня за язык тянул! Молчал бы себе в тряпочку. Но она устала после работы, а я был зол из-за всех этих неприятностей и не уступал. Она меня стукнула, и я как-то нечаянно ударил ее по щеке. А опомнился я уже на полу, и на мне лежал опрокинутый радиоприемник. На мое счастье, приемник был маленький и легкий.
Сроду не видел такой быстроты — я и не заметил, когда Гарри меня ударил. Теперь он глядел на меня сверху вниз — во рту сигарета, и на сигарете еще осталось с полдюйма пепла.
Кажется, я заплакал. Моя старуха подошла и помогла мне встать.
— Сядь, — сказала она. — А ты, — повернулась она к Гарри, — никогда больше не встревай между мной и моим, сыном.
Гарри отшвырнул сигарету.
— Он не смеет на тебя руку поднимать.
— Я сама с ним справлюсь. Ты слишком много на себя берешь. Это мой сын.
— Ну и возись с ним на здоровье, — сказал он, выходя. В дверях он оглянулся. — Хорошую обузу ты растишь на свою шею, моя милая.
Поверите ли, но когда он ушел, я рассказал ей почти все. Если можно так выразиться, приближенную версию. Она мне поверила, и я поздравил себя; случайно я как бы одержал победу. Или, верней, так мне казалось. В тот вечер она даже не пожелала ему спокойной ночи. Я долго не спал, но, сколько ни прислушивался, не слышал скрипа на лестнице и, наконец, заснул как убитый. А ведь этот человек дал мне свой велосипед и заклеил прокол. И я его даже не поблагодарил, ни вечером, ни на другое утро, ни после. Теперь это, конечно, неважно. Но тогда было важно — для него.
4
Назавтра на работе было почти то же самое. Дядя Джордж велел мне отвезти записку одному подрядчику на строительный склад в трех милях от нашего участка. Я захватил с собой инструменты для велосипеда, но на этот раз обошлась без прокола. И не удивительно, потому что на переднем колесе были новые покрышка и камера, Гарри их купил, когда магазин был уже закрыт, — наверно, не скоро он туда достучался. Что было в той записке и во многих других, я узнал гораздо позднее, но вам, пожалуй, сразу скажу, что они жульничали с путевыми листами и с излишками цемента, которые вовсе не были излишками; а о том, как я испортил им всю музыку, речь впереди.
К вечеру пошел дождь, работа остановилась, и пошла игра. В сарае резались в карты, а мы со стариком Джорджем сидели в цементной трубе, подложив под себя рваный мешок, чтоб удобней было, и разговаривали. Этот Джордж, скажу я вам, был первый разумный человек, которого я встретил. Серьезный такой, спокойный. Он все замечал, проницательный был, не хуже Носаря, но только его другое интересовало. Я не загибаю, честное слово. Он со мной как с равным разговаривал. Верил, что я его пойму и не придется вдалбливать мне одно и то же тысячу раз. И никогда не хвастал, не заливал: если он что сказал — значит, так и есть, он не сплетал байки, выставляя себя умником, который, все наперед знал.
Слово за словом, о многом мы переговорили.
Я его спросил: неужто он всю жизнь на этой работе? Он сказал — нет, строил шоссе, большие резервуары, прокладывал подводные тоннели.
— Да, много я в свое время тоннелей проложил. А начинал углекопом.
— Глубоко работали?
— Не очень. Футов шестьсот или семьсот глубины было. Уголь здесь почти у самой поверхности, чашей залегает. Поковыряйся в земле к западу отсюда и найдешь целую залежь; не удивлюсь, ежели и мы наткнемся на пласт, как станем дальше рыть.
— А сколько вам тогда было лет?
— Я в шахту совсем мальчишкой пошел, лет тринадцати. У шахтного ствола по десяти часов в день торчал, открывал и закрывал дверь. Сидел там и играл сам с собой в крестики и нолики, всю дверь изрисовал. Скучища. Потом стал лошадью править — вывозил на-гора вагонетки с углем. А там и за настоящее дело взялся — забойщиком стал. Зарабатывал ничего себе, ежели не попадался пласт «черствого хлеба».
— А что это?
— Место такое, где уголь твердый, а кровля плохая или разрушенная или же воды полно.
— Трудно приходилось?
— Помаленьку привыкаешь. Не сладко, конечно. Но мне ничего, нравилось, работал, покуда первая мировая не грянула… тогда меня взяли.
— Вы пошли в солдаты?
— Не пошел, а взяли меня. Вызывает раз меня из шахты управляющий, старый Чарли Лоусон: тертый он был, старый черт. Сказал, что нужны в армию добровольцы-шахтеры, по одному с каждой шахты. «Понимаешь, — говорит, — требуются добровольцы, вот я тебя и назначил от нашей шахты!»
Он подолгу молчал. Нужно было все время его теребить, выспрашивать, но все равно дело двигалось еле-еле. Мне казалось, будто я вижу страшный сон и все это происходит со мной. Улица идет вниз по склону холма. У меня длинный нос, и все надо мной смеются. И каждый божий день одно и то же. В два часа ночи: «Вставай, живо!» — это кричит рассыльный с шахты, стуча в дверь, как в здоровенный барабан, и так до тех пор, покуда не стряхнешь с себя сон и не заорешь ему, что ты проснулся. Потом спускаешься вниз, зажигаешь лампу и кипятишь чайник на большой раскаленной плите; надеваешь шахтерскую робу; завариваешь чай и наливаешь полную флягу; запасаешься на семь часов под землей тремя ломтями хлеба с каким-нибудь жиром или черной патокой, мажешь ее на хлеб без масла. Спускаешься с холма, а мороз кусает коленки. У входа в шахту берешь лампу и из темноты падаешь вниз, где еще вдвое темнее; шахтный ствол уходит все глубже, угольная пыль набивается в ноздри, вода капает за шиворот, забой уже близко. Вдвоем с напарником начинаешь рубать вручную уголь, врезаясь в пласт, орудуешь лопатой, покуда не перестанешь различать, где вода, а где пот. Здесь ты хозяин. Никаких шуток насчет длинного носа, когда у тебя в руках инструмент.
И вот в разгар войны приказ: вылезай из шахты. Труба зовет. Открытая дорога. Верный шанс стать героем.
До самой смерти не забыть мне старого Чарли Лоусона. Явился вечером в десять часов со своей лошадью и двуколкой, чтоб отвезти простого шахтера на вокзал в Ньюкасл. Там уже ждал здоровяк сержант, который умел лихо ругаться и не боялся ни бога, ни черта. Чарли отдал ему сверток, где была сотня сигарет и бутылка его любимого зелья от простуды, а потом оставил меня с сержантом и еще с двумя десятками ребят. Всю дорогу до Лондона мы дрожали, но не от холода, а от страха, потому что сержант рассказал нам про трупы и про «ничью землю». В Кинг Кроссе к нам подсадили новеньких, а потом — еще станция, и там тоже толклись растерянные шахтеры и орущие сержанты.
Потом мы отплыли на пароходе во Францию: всего тридцать шесть часов пути от шахты до самой линии фронта. Там была равнина, вся усеянная костями и рытвинами; пустыня, которая при дневном свете выглядела еще страшнее. И кругом глина, глина. Всюду стояли огромные вонючие лужи, и дорога порой шла прямо через них; глина налипала на подошвы, и начинало казаться, будто вместе с ногой всю землю поднимаешь. А на горизонте то появлялись, то исчезали клубы дыма. По дороге валом валили солдаты, многие были перевязаны и не могли идти без чужой помощи. Они кричали нам: извините, мол, что не успели себя в порядок привести. И распевали бессмысленную песню, которую сами сложили: