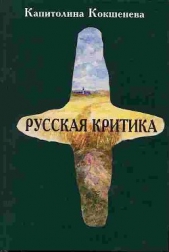Русская красавица

Русская красавица читать книгу онлайн
Русская красавица. Там, где она видит возможность любви, другие видят лишь торжество плоти. Ее красота делает ее желанной для всех, но делает ли она ее счастливой? Что она может предложить миру, чтобы достичь обещанного каждой женщине счастья? Только свою красоту.
«Русская красавица». Самый известный и популярный роман Виктора Ерофеева, культового российского писателя, был переведен более чем на 20 языков и стал основой для экранизации одноименного фильма.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Это верно. Любили мы с ним пожрать, и благоговели официанты от наших заказов, понимая, что перед ними не безденежный человек, не фитиль, а сам Владимир Сергеевич, который в еде шуток не допускал, жрали много и вкусно, кто еще мог сравниться с ним в этом искусстве пожрать! и от этой обильной и щедрой пищи так прекрасно сралось, словно это поэма!
Никто его не понял и не простил, только все порывались плюнуть на свежевыкопанную могилу, потому что неправда, что любят у нас покойников, а любят у нас только тех покойников, которых не любят при жизни, а которых при жизни любят, после смерти – пуговица отрезанная. И если бы Зинаида Васильевна пригласила меня на поминки, я простила бы все! все! – я была бы ей первой заступницей, первой подругой, я бы с ней вспоминала его выражения глаз, его мысли и руки, пахнущие дорогой заграничной кожей, и клеветники, недостойные его ногтя, были бы публично посрамлены, но случилось обратное, выпал мне жребий перейти в их стан, потому что наступил конец моему вековечному долготерпению, потому что замыслили меня вытолкать без извинений из зала, где он, не дали принести в скромный дар мои белоголовые каллы, нет, не знала смирения подлая душа Зинаиды! И осталась я при своих воспоминаниях, при его криках, когда ему некому было, как только мне, искричаться, зарыв под подушку телефон, на который всегда смотрел с подозрением, и радовался, что нашла и для него подходящее слово: падла! – да, я падла! – радовался он. – Падла! Падла! – Кто еще посмеет так о себе, это ли не по-христиански? И теперь, как дочь православной церкви, свидетельствую, стоя над пропастью своего решения родить рокового моего херувима: – Так никто еще себя не поносил! – Да, я видела всяких деятелей, которые рвали на себе волосы, отдаваясь минутному мутному покаянию, но что их слова по сравнению с кнутом и нагайкой моего Леонардика, родившегося не в том веке, когда искусства цветут вокруг полных возрожденческих ног Монны Лизы, близ чертогов любви и весенних грез? А его последняя задумка, насчет полковника, пристрелившего, как Тютчев, свою незаконную связь, разве здесь нет того глухого отзвука катастрофы? разве здесь не бродит его тоска?!
Да, он любил, и если Зинаида Васильевна, выживши из ума, угрожала ему самоубийством, на которое не было способно ее ожиревшее тело, так он был просто святой, кто еще мог бы терпеть весь этот скрипучий корабль своей дачи, всех этих паразитов и приживалок, глубоко неверных людей, посреди которых мне было противно находиться, и не случайно меня вывели из душного прощального зала, хотя я ничего не сказала и ни на что решительно не посягнула, я хотела пройти незаметно, как проходит чистая любовь, а они меня за руки и – поволокли, и вдобавок называли меня хулиганкой, и дедуля, попав с ними в заговор, ничего мне об этом не сказал. Так почему мне печалиться, если он умер, испугавшись меня, как заразы, и бежавший туда, где футболист играет, а время стоит?
И околевай себе на больничной койке, Тихон Макарович, хотя по-христиански я не против того, чтобы ты вылечился и продолжал свою мелкую жизнь старпера, потому что не девочка я и жизнь моя – не малина! Я надела убогое, нищее платье, я не мазалась, не причесывалась, я была красивее всех в этот скорбный день моего унижения! Но не дали почувствовать превосходства. Тесен мир. И уже Виктор Харитоныч, мой давнишний и преданный покровитель, нахмурил козлиное свое личико, готовя дурное дело расправы, и заерзала от нетерпения сорвать с меня покрывало, залезть с головой под простыню, подышать воздухом моей несчастной любви Полина Никаноровна, растлительница иллюзий. Уж она постарается навести на меня напраслину! уж она порадуется моим слезам, приготовя весь этот позор, а Харитоныч? Ну, что Харитоныч? Он понуро отведет глаза в сторону и начнет заседание, и я, неподготовленная, в пестром летнем платьице, вдруг узнаю о себе много нового, вдруг распустят про меня ползучие слухи, и собрание под тишину унижения будет исключать меня из мира живых людей и туда гнать, куда поезда ходят пустые, ненагруженные, в логово моего одноглазого папочки, что совсем уже утратил дар разумной речи, в логово неотесанного родителя, променявшего жизнь на затишье, похожее на пожизненную смерть.
Но прилетит из Фонтенбло птица-Ксюша, доступная глубокому удовольствию, тяжелому кайфу, и предложит мне выход и дерзкую выходку, и я соглашусь, и она позвонит X., делавшему только ради нее отступление от своего благородного пристрастия к расе мужчин, чтобы он взял с собой все свои принадлежности и примчался бы к нам, и при этом сказала: – В этом особенном чувстве X. ты найдешь для себя удачу. Он заснимет все так, что останутся одни кружева художества, а от вульгарности ты ускользнешь! – И была она права, моя мудрая Ксюша, и не мне жалеть, хотя предчувствую, что перешла тот порог, когда люди понимают людей, а все почему? – потому что мой сад был прекраснее многих, и повадились в него ходить многие, и многие подозревали, что топчут его еще слишком многие, и не доверяли друг другу, и не верили моей искренности, слишком прекрасный был сад, слишком сладостные были в нем плоды, и осталась я со своими плодами надкушенными, и стали они гнить то с одного бочка, то с другого, потому что красавице жизнь посреди уродов тоже, знаете ли, не радость!
И когда подоспел симпатичный фотограф X., тонкий мастер и друг петербургской элиты, да только нечувствительный к женщинам, что меня, однако, заинтриговало, потому что, кроме Андрюшки, на которого я могла смело положиться и даже спать вместе, как спят с новорожденным, не доверяла я этим нечувствительным мужчинам, видя в них смутную для себя обиду, то есть как это так! И не верила им, полагая, что просто не могут, а они, оказалось, могли, но совсем не хотели, и мы были у них, как на голой ладони, и приехал тогда X. со своей новомодной аппаратурой, с принадлежностями почти что диковинными, будто для подводной охоты, весь в вельвете, ногти овальные, полный старинной нежности к нашей Ксюше, несмотря на причуды, и Ксюше нравилось, она подчеркивала и не скрывала, как победительница, и Ксюша ему говорит: – Так вот и так. Сможешь сделать? – X. подумал и отвечает: – Попробуем!
12
Но любовник – не тот, с кем спишь, а тот, с кем утром сладко проснуться, и Виктор Харитоныч знал это и не мог мне простить, а когда Зинаида Васильевна, роняя вдовью росу, заграбастала жирную пенсию и нажаловалась на меня, чтобы обелить своего погубленного супруга, который прожил со мной с лишком два года и был счастлив, как цуцик, и умер с достойным криком, когда Зинаида Васильевна сделала свое черное дело, я пребывала в полнейшем неведении, я оплакивала пропажу и перечитывала некролог в свое утешение, и дедуля, Тихон Макарович, жил бок о бок незаметной жизнью стахановца и помалкивал, словно он непричастен, а когда Виктор Харитоныч радушно, с интимными вибрациями пригласил меня заглянуть к себе в кабинет, то даже смутного подозрения у меня не промелькнуло, а подумала я, что никак он не может угомониться, и, видать, настал час платить за вольготную жизнь, только зря он, подумала я, афиширует наши сношения и тщеславится мной на глазах коллектива и Полины Никаноровны, которая всегда считала, что женщина без лифчика все равно что не женщина, а последняя тварь, так как бюст у Полины Никаноровны давно вышел из повиновения, и никогда нам не понять друг друга, хоть пуд соли съедим за общим столом во время поездок по ярмаркам и балаганам, где в автобус, куда нас ведут переодеваться, ломятся, как за мясом, а Наташа, божия сыроедка, говорила, суча быстрыми руками пряжу отвлеченных слов, что мясная философия правит миром и сквозь мясо плохо виден Бог и вопросы вечности, и когда она шла, отвергая мясо, она видела состав воздуха и улыбалась ему, и даже микробов видела, а Вероника хвалила ее и кормила своего Тимофея мясом, чтобы он был сильный и злой, а когда Виктор Харитоныч, козлиная голова, пригласил меня на свидание, я, конечно, почуяла недоброе, нюх у меня, слава богу! – и решила отклонить приглашение, да он настаивал, да так усердно и нежно, что я решила, что ему невтерпеж, или что прослышал и хочет выведать, любил он всегда, чтобы я ему порассказывала, посравнивала достоинства, у кого что и как, хлебом не корми, только расскажи про достоинства и отклонения, и я его развлекала тем, что рассказывала, и ему очень нравилось, что министр не то чтобы тяжелой, но и не легкой промышленности, человек удивительных качеств, был обижен на меня за то, что сидела на званом пикнике у Москва-реки по-турецки, сняв мокрую тряпочку купальника, подаренного все той же Ксюшей Мочульской, которая мясную философию тоже критиковала и тоже, как та сыроедка, ядовито высказывалась о засилии времени, да только я знала такую вечность, где не только глубины, но и благости нет, то есть одна непролазная топь, в которой гибнут самосвалы и любопытный соседский мальчик на корточках, и меня он обжег, этот трос, по щеке поцарапав, и глубинки мне этой, спасибо, не надо, а Ксюша, взращенная на вырезке и детских девичьих шалостях, неполная девятиклассница, с подругой обменивалась поцелуями, а мой одноглазый папаша стерег меня и держал в черном теле не совсем бескорыстно, и я все мимо ушей: насчет Бога, которого плохо, мол, видно сквозь мясо, спасибо большое! а Виктор, значит, Харитоныч получал удовольствие от затруднений министра и дивился его легкомыслию, потому что тот верил, что я воспитываю детей дошкольного возраста, такое занятие, и от души хохотал хриплым басом, а как села посреди пикника по-турецки, лицом к Москва-реке, ощутил неудобство и нарушение этикета, потому что был не один, а с компанией, у которой шашлык встал поперек горла, если не сказать большего, а мне плевать: я сижу, и мне весело, а министр вскорости умирает от рака, но перед этим со мной примирился и даже познакомил со своей престарелой мамой, это, мол, Ира, о которой тебе рассказывал, а был он, что характерно, вдовец, и маме я очень понравилась, только он умер, сгорел от болезни, я ему еще передачи носила, у него в палате цветной телевизор стоял, а доктор мне говорил: даже если он на ноги встанет, все равно мужчиной ему не бывать, а я говорю: ну, и не надо! а доктор мне на это: вы – благороднейшая женщина!