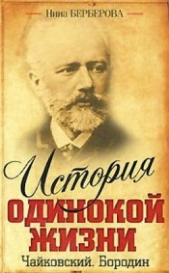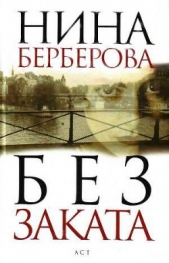Биянкурские праздники

Биянкурские праздники читать книгу онлайн
Нина Берберова — поэт, прозаик; автор нашумевших воспоминаний «Курсив мой», таинственной книги-жизнеописания «Железная женщина», биографий «Чайковский» и «Бородин». В 1922 году она вместе с мужем Владиславом Ходасевичем уехала в эмиграцию, где должна была найти новую родину, как и сотни ее соотечественников…
«Биянкурские праздники» — цикл рассказов, сколь пронзительных, столь же и документально интересных, «о людях без языка, выкинутых в Европу после военного поражения, о трудовом классе русской эмиграции…»
«Последние и первые» — фактически первый роман, посвященный жизни простых русских во Франции.
«Зоя Андреевна» и «Барыни» — рассказы конца 1920-х годов; публикуются в России впервые!
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Смеркалось. Напротив, в «Кабаре», заиграл граммофон. Под окном проскальзывали люди. Женщины шли за покупками — не матери семейств, не жены, не хозяйки, те ходят утром, выводят заодно ребят в школу, те все по часам делают. Это шли куклы с той улицы, что у самой реки, поперек нашей, куклы, только что вставшие, волосы у них ярко-желтые, голоса басистые, зады, обхлестнутые черным шелком, а ноги — как опрокинутые бутылки из-под сельтерской. Но и куклам обедать хочется: мясо, сыр, бутылка красного вина — за этим выходят они в сумерках, и идут, и ругаются и долго слушают «Стеньку Разина» в граммофоне «Кабаре», и долго смотрят на духи и помаду, выставленные в окне парикмахерской Бориса Гавриловича. И потом возвращаются снова в ту поперечную улицу, где ночами музыка, стрельба и пьяный крик на восьми языках.
Я раскрыл старую папку у себя в комнате под лампой. В папке находилось дыхание Вани Лёхина, дыхание его не раз простреленной груди. Рукопись была длинная, около ста страниц. Это, по всему видать, было только начало чего-то, скажем — романа. Первые двадцать страниц были перебелены самым неподдельным образом, последние были еще неопрятны — уверен, что последние страницы Ваня Лёхин обожаемой женщине не показал бы. Бумага романа была в клетку, а почерк — известный, ванелёхинский, такой все больше книзу и с петельками.
С первого взгляда сомнение закралось мне в душу: не от романа ли умер он, милый мой Ваня Лёхин? Мне стало вдруг ясно: горело в нем что-то, как на пожаре, и от этого долгого пожара не смог он более жить. Как это не догадались мы, что в нем воображение страдает? Может быть, и еще в каком-нибудь приятеле то же происходит, а мы и не знаем! Но никоторый из приятелей не признается. Ни я сам первый.
Я начал читать завещанное мне произведение пера.
«Ночь была черна. С деревьев сдувало последние листья. Я вышел со станции, когда еще можно было различить в небе дымок, вылетающий из трубы станционного здания, мерцание окошка и зеленый привокзальный огонь. Потом надвинулся мрак. Колеи дороги, размытые дождями, едва чернели, нога попадала в них. Бежали тучи.Я шел довольно долго. Поле кончилось, и роща тоже кончилась. В этой роще когда-то, очень давно, сначала сражались две стороны, а потом убивали и грабили. Дорога пошла в гору. На открытом месте меня чуть не сшибло с ног ветром. Потянулось кладбище. Мне представилось, как завтра утром, по серенькой погоде, я вернусь сюда, узнаю прямую дорожку, кусты сирени, плиту на могиле отца.Городская больница частью закрыла от меня даль. Начался город. Я знал этот город. Я знал эти улицы. В палисадниках качались деревья, роняли капли, скрипели. Но в городе было тише. Порою забор обрывался, и из глубины двора молча бросалась за мной собака и сейчас же отставала. Никто не встретился мне в этот поздний час. Я отсчитывал перекрестки, сворачивал по памяти. На каком-то углу мне попалась наполовину сорванная доска: <i>улица Карла Либкнехта.</i> Мне показалось, что я узнаю этот перекресток. Екатерининская.Где-то в трехстах шагах от того места, где я сейчас рыскал, я знал, начинаются мощеные улицы, может быть, пивная еще открыта там, светится в доме, за цветной занавеской, лампа, или проезжает поздний трамвай. Но ничего не было слышно от ветра. И я шел, как ходят слепые по родному дому.Наконец дом мой был найден, я увидел номер, тот самый, что столько лет выставлял я на конвертах. Две ступени вели к крыльцу. В окнах было темно. А над крышей, над старой трубой, шли тучи.Окна были закрыты ставнями изнутри — таков обычай в моем городе. Звонка не было. Надо было стучать, но стук в ночи мог испугать их. Я прислушался: не дрогнет ли что-нибудь в доме, но во всем городе, должно быть, в этот час не спал я один.Я приложил ухо к дверям и стукнул два раза. Где-то что-то хлопнуло, может быть, за три квартала. Кто-то, шаркая войлочными туфлями, подошел к дверям. Я взялся за косяк, в другой руке сжимая ручку чемодана. Я почувствовал, как толкается в груди сердце. Невидимая рука в темноте потрогала замок.— Кто там? — спросил тихий мужской голос так внезапно близко от меня.— Ваня Лёхин, — ответил я так же тихо.Рука пошарила. Дверь открылась. Глаз блеснул на меня, черный, большой и блестящий.— Войдите, — сказал человек. — Это же целое событие! Только тихо, не надо будить. Ночью пусть спят. Днем устают.С чемоданом я протиснулся в дверь. Во мраке я теперь не видел ничего. Где-то спокойно и довольно громко тикали часы.— Надо представиться, — сказал человек шепотом, и я почувствовал, как он протягивает мне руку. — Моисей Борисович Готовый, Сонин муж.Я поймал его руку, она была невелика и горяча.— Идите за мной, — шепнул он снова, — я покажу вам нашу кухню.Он повел меня за руку. По моим воспоминаниям, здесь должна была быть лестница во второй этаж, однако ее не было. Беззвучно отворилась какая-то дверь, мы двигались тихо, словно плыли. Мы вошли куда-то, где было теплее и воздух был другой.Чиркнула спичка, тень прошлась по плите и полкам. Я увидел маленького человека, склоненного над керосиновой лампой. Теплый керосиновый дух дошел до меня, запрыгало пламя и остановилось в стекле.— Садитесь, — сказал Моисей Борисович, — сейчас получите уху, сегодня мы имели уху к обеду.— А Соня? — спросил я тихо.— Садитесь, я вам сказал. Соня сон смотрит. Почему не предупредили? Заболеть от неожиданности можно.— А мама?— Мама ваша завтра утром вернется. Ушла к родным.— К каким родным? Зачем?— Тише, тише, зачем же так кричать? У нас тут есть дети.Он выловил из высокого горшка кусок судака, длинную тонкую морковь. Отрезал кусок хлеба, прижав каравай к груди. Теперь я вполне разглядел этого человека: ему было за сорок, он был в подштанниках, в рубашке. На темени его торчали легкие черные волоски, такие же волоски вылезали из больших ушей и даже ноздрей тяжелого носа. Он сел напротив меня, и только теперь взгляды наши встретились. Мы долго смотрели друг на друга.— Ну, кушайте уху, — сказал он, взволновавшись, — это же целое событие!Он опустил глаза.Я ел судака и хлеб. И мне казалось, что хлеб живой, он дышит, он видит меня, идет мне навстречу, входит в меня, насыщает меня и делает счастливым.— У вас так тихо, — сказал я, — всюду.— Да, слава богу, теперь… — ответил он, и полузабытый испуг мелькнул в его влажных глазах.Я кончил есть.— Я знаю одну интересную вещь, — сказал он внезапно, — я положу вас в мамину комнату, другой постели у нас нет, у нас пока все еще две комнаты, наверху живут.