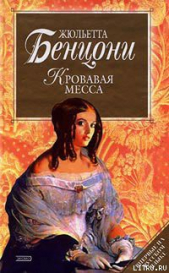Сатанинские стихи

Сатанинские стихи читать книгу онлайн
«Сатанинские стихи» — скандально известный четвёртый роман британского писателя индийского происхождения Салмана Рушди, изданный в 1988 году. Роман написан в жанре магического реализма. Основная тема романа — это эмигранты и эмиграция, невозможность ассимиляции в новой культуре, неизбежность возвращения к корням.
Роман запрещен во многих странах. В 1989 году, Аятолла Хомейни приговорил Салмана Рушди к смерти за «Сатанинские стихи». Приговор остается в силе по сей день.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Мало того, чтобы верили в тебя, надо и самому верить в кого-то. Это есть у вас: Любовь.
Саладин Чамча встретил Памелу Ловелас {306} за пять с половиной дней до конца шестидесятых, когда женщины все еще носили банданы {307} , скрывающие волосы. Она стояла в центре комнаты, полной актрисами-троцкистками {308} , и поймала его глазами такими яркими, такими яркими. Он пробыл с ней весь вечер, и она улыбалась не переставая, но ушла с другим. Он отправился домой, мечтая о ее глазах и улыбке, ее стройной фигурке, ее коже. Он преследовал ее два года. Англия неохотно уступает свои сокровища. Он был удивлен собственной настойчивостью и понял, что она стала хранительницей его судьбы; что, если она не смягчится, все его попытки метаморфозы потерпят неудачу. «Позвольте мне, — упрашивал он, осторожно борясь с нею на белом ковре, когда она покидала его на своей полуночной автобусной остановке, укрытой пушистым снежком. — Верьте мне. Я — то что надо {309} ».
Как-то ночью, нежданно-негаданно , она позволила ему; она сказала, что верит. Он женился на ней прежде, чем она смогла передумать, но так и не научился читать ее мысли. Когда она была несчастна, она обычно запиралась в спальне, пока ей не становилось лучше. «Это не твое дело, — говорила она ему. — Я не хочу, чтобы кто-то видел меня, когда я такая». Он имел обыкновение называть ее моллюском. «Откройся, — выбивал он на всех запертых дверях их совместной жизни, сперва в подвальчике, потом в двухуровневой квартире, потом в особняке. — Я люблю тебя, впусти меня». Он так сильно нуждался в ней, чтобы доказать себе свое собственное существование, что так и не понял отчаяния в ее вечной ослепительной улыбке, ужаса в яркости, с которой она взирала на мир, или причин, по которым она пряталась, когда не могла оставаться сверкающей. Только когда было слишком поздно, она сообщила ему, что во время ее первых месячных родители покончили с собой из-за нависших над ними карточных долгов, оставив ее аристократически ревущей в голос; ее отмечали как золотую девочку, завидную женщину, хотя на самом деле ее просто бросили: родители даже не потрудились дождаться и посмотреть, как она растет, вот как сильно они любили ее ; поэтому, разумеется, в ней не было и не могло быть никакого доверия, и каждый миг, который она провела в этом мире, был полон паникой; поэтому она улыбалась и улыбалась, и разве что раз в неделю запирала дверь и дрожала, чувствуя себя шелухой, пустой арахисовой скорлупкой, обезьянкой, оставшейся без ореха.
Они так и не смогли завести детей; она винила себя. Через десять лет Саладин обнаружил, что какая-то проблема была с некоторыми из его собственных хромосом, два плеча {310} слишком длинные, или слишком короткие, он не запомнил. Его генетическая наследственность; ему повезло, что он смог нормально жить, в худшем случае он мог бы стать каким-нибудь деформированным уродцем. От матери или от отца это досталось? Доктора не могли сказать; легко предположить, на кого возлагал вину он сам: в конце концов, кому же захочется плохо думать о мертвых...
В последнее время они не уживались.
Он уверял себя, что лишь впоследствии, но не всегда.
Впоследствии, говорил он себе, мы словно спали на камнях: может быть, из-за того, что у нас не было детей; может быть, мы просто отдалились друг от друга; может быть, это, может быть, то.
Обычно же он избегал взглянуть на все напряжение, на всю неуклюжесть, на все бои, никогда не получавшие развития; он закрывал глаза и ждал, когда вернется ее улыбка. Он разрешил себе верить в эту улыбку, в эту блестящую подделку радости.
Он попытался сочинить счастливое будущее для них, сделать так, чтобы все сбылось, придумывая это и затем уверуя в это. По дороге в Индию он думал, как ему повезло, что у него есть она: я везучий да я уверен я самый везучий ублюдок в мире. И: как замечательно, когда на всех дорогах, на всех сумрачных переулках лет есть перспектива постареть рядом с ее мягкостью!
Он работал столь упорно и подошел так близко к тому, чтобы поверить в истинность этой легкомысленной фикции, что, ложась в постель с Зини {311} Вакиль во время сорока восьми часов своего пребывания в Бомбее, первое, что он сделал (прежде даже, чем они занялись любовью) — это потерял сознание, застыл недвижно; ибо сообщения, достигающие его мозга, были в таком серьезном разногласии друг с другом, словно его правый глаз видел мир уходящим влево, тогда как левый — скользящим вправо.
Зини была первой индийской женщиной, с которой он когда-либо занимался любовью. Она влетела в его гримерку после первого вечера Миллионерши , с оперными руками и драматическим голосом, словно его не было годы. Годы...
— Яар, какое разочарование, клянусь, я просидела все представление, только чтобы послушать, как ты поешь «Goodness Gracious Me» как Питер Селлерс {312} или что-нибудь вроде этого, я думала, давай-ка посмотрим, научился ли парень попадать в ноту, помнишь, как ты исполнял роль Элвиса {313} со своим ракетным ревом, дорогой, так смешно, полный разгром! Но что это? В драме нет песен. Черт. Послушай, ты не можешь сбежать от всех этих бледнолицых и навестить наших хводжей {314} ? Наверное, ты и забыл, на что это похоже...
Он вспомнил ее подростковую плоскую фигурку с кривобокой прической от Мэри Куант {315} и такой же кривобокой, но на другую сторону, улыбкой. Опрометчивая, дурная девчонка. Как-то раз черт дернул ее зайти в печально известную адду {316} на Фолкленд-роуд {317} , и она сидела там, дымя папиросой и попивая кока-колу, пока внезапно нагрянувшие сутенеры не пригрозили порезать ей лицо: фрилансеры {318} здесь не допускались. Она оглядела их с ног до головы, докурила папиросу, ушла. Бесстрашная. Может быть, сумасбродная. Теперь, в тридцать с хвостиком, она была квалифицированным доктором, консультирующим в госпитале Брич Кэнди, работая с городскими бездомными, вернувшимися в Бхопал {319} , когда сообщили об уничтожении невидимого американского облака, разъедавшего человеческие глаза и легкие. Она была искусствоведом, и ее работа по мифу об аутентичности {320} (этой фольклорной смирительной рубашке, которую она стремилась заменить этикой исторически обоснованного эклектизма {321} , — ибо разве не базировалась вся национальная культура на принципе заимствования, в какие бы одежды она ни рядилась — Арийца, Могола, Британца: взяв-златое-брось-иное {322} ?) вызвала предсказуемое зловоние, особенно из-за названия. Она назвала ее «Хорошее Индийское — Мертвое Индийское».