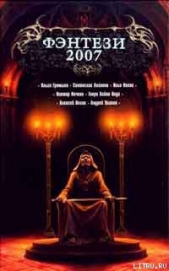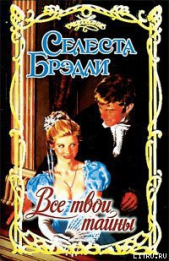Кони святого Марка
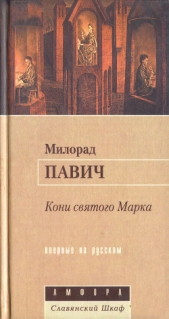
Кони святого Марка читать книгу онлайн
Павич может говорить с позиции наследника балканских цивилизаций не потому, что ему было суждено родиться под этим небом, а потому, что он сумел найти путь к ценностям минувших эпох.
Милан Комненич
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Что ты видишь на подносе?
— Свою щеку, — ответил приведенный.
— У тебя нет чести [17] с тех пор, как ты предал своих, — ответил Дед-ага Очуз. — Смотри лучше. С этой медной пластины с вырезанным на ней рисунком когда-то печатали карты, а потом из нее сделали поднос. Можешь прочитать, что на нем написано?
— Griechisch Weissenburg.
— Что это значит?
— Белград.
— Греческий Белград?
— Нет. Австрийцы так дают понять, что мы, сербы, живущие в Белграде, не принадлежим к их вере.
— И к нашей тоже.
— Мы знаем.
— А своей у вас нет, только греческая. Но это неважно. Мы хотим, чтобы ты рассказал, что изображено на подносе и когда был вырезан рисунок. Нам нужны подробные сведения о Белграде. Как можно более подробные. О крепостных стенах, постройках, строителях, воротах, о богатстве, жителях — обо всем. У нас целая ночь впереди, а сколько нам осталось жить, я не знаю. Нелегко поделить хлеб, если не знаешь, сколько его осталось. Поэтому рассказывай не спеша. От рисунка к рисунку, и лучше тебе что-нибудь прибавить, чем не договорить. Подумай только: с каких ты пор, подумай потом: больше уже никогда!
Сидя на седле и медленно поворачивая поднос, проводник разглядывал его дно, следя за тем, чтобы пламя не опалило ему усы и брови, и читал по меди, как по книге. Все время его долгого рассказа Дед-ага Очуз сидел неподвижно, перебирал бороду, словно держал в руках какого-то шустрого зверька, и прядь за прядью внимательно ее обнюхивал, сверкая глазами при каждом новом запахе, который улавливал. Про эти глаза говорили у походных костров, что порой они на мгновение слепнут, и Дед-ага Очуз иногда, спешившись, не видит землю, с которой садился в седло. Ему было очень хорошо, он слушал, делая вид, что не обращает особого внимания на рассказ, и казалось, он принюхивается, словно охотничий пес, пытаясь отыскать какое-то место, где уже был раньше, но потом запамятовал к нему дорогу. Только место это находилось не снаружи, за стенами шатра, а где-то в нем самом, скрытое и заросшее временем. Вот так ожидая, что знакомый и давно желанный запах разбудит его память и отведет в нужное место, Дед-ага Очуз слушал. Под бровью у него пульсировала жилка, тикая, как часы, так что на его застывшем лице волоски трепетали, словно бабочки. Можно было ожидать, что эти часы, идущие в нем, остановятся и пробьют точное время, когда он найдет оба искомых места: в рассказе проводника — для нападения на город, а в себе самом — откуда это нападение начать. И весь его военный поход, вместе с полученными сведениями, казался тем вечером людям в шатре не самой важной частью другого, внутреннего похода, который в некое неизвестное мгновение соединится с первым в одно неудержимое действие и выполнит некогда данную клятву. Так, по крайней мере, думали сидящие в шатре. А Дед-ага Очуз, принюхиваясь к своей бороде, думал о чем-то совсем другом. Он вспоминал, как в один из пыльных дней похода, на вечерней заре, наблюдал картину, значение которой понял не сразу. Из своего седла он увидел собаку, которая перебегала ему дорогу. Потом сообразил: собака пытается схватить светлячка. А потом оба пропали из виду. Он даже спросил себя — не заметил ли их еще кто-нибудь в отряде, и пришел к выводу: я тоже гонюсь за светлячком. Только он давно уже во мне, а я по-прежнему ловлю его. Значит, проглотить недостаточно. Приходится и дальше захватывать свет, даже если он уже проглочен…
которое было выслушано в ту ночь, может кому-то показаться слишком пространным и изобилующим подробностями, не относящимися к собственно военным сведениям, но этому легко найти объяснение: страх, который испытывал рассказчик, заставлял его говорить больше, чем от него ждали.
— Изображение вырезано тогда, когда в городе появился австрийский гарнизон, — начал проводник свой рассказ. — Я вижу это по башням, между которыми расположены Савские ворота. Эту, ближе к краю подноса, строил Кузма Левач. А эту, напротив свечи, — Сандаль Красимирич.
Сандаль Красимирич был гораздо старше Кузмы Левача; по возрасту он годился ему в отцы. А по своему положению Левач годился Красимиричу в слуги. Тот вошел в Белград с австрийской армией в 1717 году, в кожаном шлеме, так крепко привязанном к бороде, что, когда настало время снять снаряжение, бороду пришлось остричь. После того как Красимирич это сделал и остался с непокрытой головой, оказалось, что он совершенно седой. Еще во время войны он попал в строительные части австрийской армии, возводившие понтонные мосты, а с 1723 года участвовал в восстановлении, по планам швейцарского наемника Николы Доксата, разрушенных башен и крепостных валов. У него не было для этого иной подготовки, кроме полученной в походах, но и в мирное время он заслужил доверие начальства, и ему поручили построить нескольких пороховых магазинов и складов в предместье. Хотя в те осенние дни дождь наполнял миски с едой быстрее, чем их опустошали рабочие, Красимирич успешно закончил работу. Его мастерство в быстро растущем городе стало пользоваться спросом, и он со своими помощниками тем больше удалялся от своего дома, чем дальше буква «р» в названиях месяцев уходила от конца слова. «В месяцы, в имени которых нет кости, домой меня не жди», — говорил Красимирич жене, и действительно, когда буква «р» исчезала из названия месяца, ни Сандаля, ни его помощников не видели в семьях вплоть до дождей, когда волшебная буква отдыха вместе с сентябрем вновь появлялась в хвосте года.
В это время Кузма Левач подрастал в пригороде на Саве среди евреев и ослепших с голоду собак. Отец-рыбак (который служил на плавучем госпитале, стоящем на приколе на Ялии) не выучил его грамоте, но водил в церковь Ружица и говорил: «Какая шляпа есть, такой и приветствуют». Со временем мальчик заметил, что у отца нет определенного имени, что и знакомые, и незнакомые называют его так, как им придет в голову, а он на все откликается. Кузме казалось, что отец завален именами и почти исчез под необычными, иногда злыми прозвищами, которые давали ему люди. Отец, указывая ему на прохожих, предупреждал: есть люди, что всю жизнь рубашку выворачивают через рукав; остерегайся их. Отец учил его вязать морские узлы и говорил возле сети, испещренной красными узелками: «Взгляни на эти узлы; они устроены так, что веревка сама тянет себя за хвост и не позволяет узлу развязаться. Как ни тяни, он не подастся, потому что удерживает себя сам. Точно так же и с людьми. Их пути так сплетены в узлы, что они поддерживают друг с другом кажущийся мир и не пересекают чужих границ, а на самом деле — словно узлы на сети, тянут на себя вплоть до разрыва, ибо каждый из них делает то, что должен, а не то, что хочет. Например, ты, сын, замешан круто. У тебя сильная кровь, она могла бы камни переносить. Но этого мало. Ты и все твое поколение не на царство препоясаны, а на подчинение и работу на хозяев. И вам все равно, на кого вы будете батрачить. Ты не сможешь петь то, что захочешь, потому что кто-то управляет твоим умом, как органчиком, и накачивает в него воздух, чтобы он звучал…»
Не веря в такую судьбу, мальчик все чаще ходил смотреть, как поднимается новый город. А город возникал будто из воды, словно его сам Кузма Левач мыслью своей строил, а глазами рисовал, потому что говорили, что у мальчишки рыбака глаза сделаны из ангельской быстроты и что он может догнать взглядом ветер через Саву. Обычно он сидел на холме в крепости над городом и клал свои глаза на крылья какой-нибудь птицы, стремительно падающей вниз с кручи, и птица носила его взгляд по городу, который понемногу рос вдоль рек, как каменные зубы земли. Так ничто не было предоставлено случаю и ничто не оставалось незамеченным; со временем мальчик сетью птичьих полетов охватил и осмотрел весь город, каждый уголок, и впитывал в себя, дрожа, словно глотал глазами, мельчайшие подробности, которых касался его взгляд на птице в ее падении. Носимый так на пернатых крыльях, он смотрел на башню Небойшу, отражавшуюся в двух реках одновременно, и сквозь ее окна, расположенные друг против друга, был виден клочок неба с другой стороны, которую башня заслоняла. Он пролетал возле колоколен, которые были слышны в двух империях, а когда птица, подхваченная внезапным потоком воздуха, ныряла сквозь триумфальную арку Карла VI, завоевателя Белграда, и, напуганная теснотой, в которой оказалась, взмывала вверх, поднимался и он, состязаясь с крыльями, к церкви Ружица, касался барабанщика, бьющего в барабан возле ворот, когда их закрывали, у которого не было видно лица, но можно было пересчитать все пуговицы, сверкающие на солнце. Кубарем, с легким ужасом, летел он снова к савским пастбищам у подножья крепости, там коровы пробрались по каменным ступенькам в запретное для них место, где у домов рос лук-порей, и жевали его, что значило — знал он — что завтра их молоко будет с запахом. И вновь перед его глазами голубая савская вода, ряды новых красивых домов с латунными шарами на дверях, за которые держатся, когда очищают перед входом обувь о серпы под ними. Потом внезапно его заносило на панчевскую [18] сторону, где видно было место с горькой травой, которое стада обходили стороной. Тут можно было почувствовать, как ветер относит дунайскую воду назад к группе солдат, которые шагали в строю со штыками, такими блестящими, что казались влажными. В городе наверху было множество часов с боем, которые перекликались друг с другом над дворцом наместника, а в нем — столько окон, сколько дней в году. Лавки были новые и полные, церкви — с крестами с тремя перекладинами, сады с красивыми оградами привлекали к себе соловьев с обоих берегов Савы, а мимо садов проезжали повозки, попадая под ливень, который накрывал всего две-три улицы. И вновь перед глазами немного облаков, немного тростника и тумана, плывущего по Саве и впадающего в более густой и быстрый туман над Дунаем. На другой стороне в лесах виднелись косые лучи солнечного света, и мальчик чувствовал в них горячие и холодные запахи дымящейся чащи. И снова появлялся город: строители заканчивали дубровицкую церковь — плотник замахивался и вонзал топор, но звук удара доносился с запозданием, так что птица успевала пролететь между звуком и его источником. Потом мальчик увидел, как ветер рассердил птицу, унося ее в сторону, и как далеко внизу ударил колокол, но звук послышался позже, словно плод, оторвавшийся от своего металлического черешка. Он видел, как этот звук дрожит под птицей, перелетая реку, и как достигает австрийских военных лошадей, а те настораживают уши на пастбище по ту сторону Савы. А потом можно было проследить, как звон колокола, словно тень облака, достигает на пути к Земуну пастухов и как те, услышав его, поворачивают маленькие головы к Белграду, который вновь погружается в тишину на своем берегу. А потом птица стремительным полетом пришила к небу, словно подкладку, этот мир, в котором мальчик лежал пойманный, как в сети. Ибо достаточно было распахнуть одни-единственные ворота, чтобы в муравейник города влетели турецкие конники и вмиг превратили все это сокровище, которое кололо им глаза на границе их мира над реками, в прах и дым. Наконец птица исчезала, будто ее разбивал ветер о калемегданский [19] вал, и мальчик заканчивал игру, унося с собой боль в глазах.