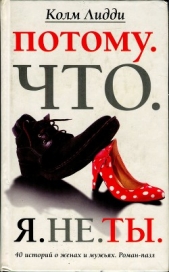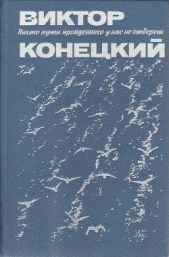Начало конца комедии (повести и рассказы)

Начало конца комедии (повести и рассказы) читать книгу онлайн
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
И вместо того, чтобы дать ей по рукам или просто-напросто один раз нахмурить брови, Юра отпускал гитару и провалился в мутный омут – чуть не сказал «любовный», в мутный омут половой игры, в блеск и шорох серебряных колготок. И это – сразу с высот настроения, с высот углубленности в мелодию, с высот тихой полуулыбки грустных воспоминаний; от тающих в тумане скалистых гор Рыбачьего, от ветки рябины на рассвете, вздрагивающей за открытым окном молодости, от березового веселого говорка золотой рощи, от памяти погибших до срока, от грозного гула турбин «Гремящего», от братского объятия русского и британского дымков над мимолетно заштилевшим Баренцевым морем… Если бы хоть не было бы этих сверхглубоких перепадов, контрастов, взлетов и падений, если бы был один постоянный монотонный фон пошлости, то я мог бы амортизироваться к нему – ведь привыкаем же мы даже к грохоту трамвая под окнами или к дурному запаху – так счастливо нас устроил бог. Но когда пошлость не просто сосуществовала, а все время боролась с чем-то благородным и все время побеждала его – и опять, и опять, и опять побеждала, – то это было очень тяжело.
– И чего вы все думаете и думаете, ха-ха-ха? – захлебывалась Виктория и кидала в меня конфетой. – А почему вы не пьете, ха-ха-ха… Смотрите, какие мы уже пьяные? А сами кофе пьют, ха-ха-ха… Мариночка, тебе надо выйти? Пойдем на минуточку, ха-ха-ха…
И они уходили в гальюн – обязательно вдвоем, ибо так им казалось удобнее и приличнее. И в замкнутом мирке просторной каюты наступала пауза и тишина. И мы скрещивали взгляды на медлительно скользящей взад-вперед по дифферентометру полоске ртути или подкрашенного спирта. Дифферентометр – длинная, чуть изогнутая стеклянная трубка – на «Фоминске» почему-то закреплен в поперечной переборке каюты механика.
– Может, выгнать эту Маринку-то? – спрашивал стармех меня. Он чувствовал мою тошноту. Юра, вероятно, тоже чувствовал, но не давал этого понять, тянулся к гитаре, трогал струны, прятал лицо в глубоком наклоне, начинал петь – знал, что сразу покупает меня вместе с потрохами.
И наступало три минуты молчания.
Девушка с золотыми волосами – никогда я больше не встречал таких золотых и буйных волос, девушка с удивительной бесстыдностью – никогда я больше не встречал такого красивого бесстыдства, девушка каприза и надменности – никогда я с таким удовольствием не потакал ничьим капризам и надменностям, первая женщина, которая понесла в себе моего ребенка, моего единственного сына, скрестившего свою судьбу с вязальной спицей в самом начале пути (тогда аборты были запрещены), – вот эта девушка приходила на три минуты в каюту старшего механика теплохода «Фоминск» в центре Атлантического океана.
Обыкновенная, вероятно, была девица, но какое обаяние просыпающегося дня, какое бесстрашие перед богом и сатаной, пред ночью и ураганом, пред коммунальной квартирой и мамой, пред разлуками и смертью! Да, она так и написала мне на Север: «У тебя был сын. Мне не жалко, а тебе? Я выхожу замуж за Степу. В воскресенье вечером будем звонить тебе, постарайся добраться в Мурманск на переговорный пункт. Галя».
Ничто так не погружает в прошлое, как музыка, которую слушал когда-то вместе с первой девушкой, никакой Римский-Корсаков не встряхнет так, как какие-нибудь «Эх вы, ночи, матросские ночи – только море да небо вокруг…». Господи, прости нам низкую музыкальную культуру! Ведь ты никогда не спал в кубрике, где спят в два этажа еще двести шестнадцатилетних, и ты не маршировал в баню в три часа ночи сквозь спящий город. Господи, ты накормил ораву пятью хлебами, но смог бы ты разделить кусок хозяйственного мыла на роту при помощи одной суровой нитки? Господи, смог бы ты прикурить махорочную закрутку, наслюнявив ее конец и– замыкая через слюни трехфазовый переменный ток? Господи, хлеб и вино – тело и кровь твое, – но тебе ведь и в голову не могло прийти, что вместо хлеба можно питаться лепешками из кофейной гущи и вымоченной горчицы. Господи, я не знаю, сколько часов умирал ты на кресте под безжалостным солнцем в облаке зеленых мух, но если ты думаешь, что умирать от голода и вшей в промерзшем тряпье, валяясь рядом с трупом любимой тети, веселее, то, прости, но я не смогу согласиться с тобой. Господи, я не кощунствую! Раны от гвоздей гноились и воняли, и смрадно дышали рядом с тобой распятые разбойники, но знаешь ли ты, что такое, когда газы исходят у тебя изо рта, потому что столярный клей застрял в кишках? Господи, ты исцелял прокаженных, хотя и терпеть не мог демонстрировать свои чудодейственные возможности; но сердце твое не выдерживало зрелища чужих мучений и ты облегчал свое сердце, исцелив больных и наладив быт заблудших, но приходилось ли тебе видеть старуху, выкинутую на снег из теплушки, ибо она ходила под себя и от нее несло такой вонью и заразой, что сотня других бедолаг вышвырнула ее под насыпь..,
Простите уж моему поколению низкую музыкальную культуру и грамматические ошибки, все наши критики!
…Эх вы, ночи, матросские ночи – только море да небо вокруг…
Спасибо, что нам досталось хоть это! Ведь высшее чудо как раз в том и заключается, что мы способны чувствовать хоть в чем-то красоту, что мы способны тосковать о ней и оплакивать лебедя, потерявшего над океаном подругу.
Той зимой и под Новый год в Ленинграде стояла жидкая погода, лужи дрожали на набережных от гнилого ветра, на кустах в скверах начали набухать глупые, слепые почки; речки и каналы не становились, лед под гранитом чернел старческими зубами, грузовики брызгались рыжей жирненькой грязью, а в ленинградских квартирах в такую погоду еще холоднее, нежели в морозы, и надо было все время топить печки, а дров, ясное дело, было в обрез. И еще той зимой и у золотокудрой Гали в у меня дома поставили на капитальный ремонт, а жильцов выселили в маневренный фонд, и вся жизнь состояла из мучительных переездов, известковой грязи на лестницах, торговли с биндюжниками, хождения по жилконторам за справками и глубокого безденежья.
А в тот роковой день моего первого грехопадения еще и мамы наши пропали. Сперва у Галки мама пропала – уехала в Токсово, по забывчивости забрав с собой ключи от комнаты. И мы поехали к моей маме на Мойку. Из двора дворничихи выволакивали на фанерных листах грязный заблудший снег и сваливали его в Мойку, он тяжело плюхал и сразу тонул, только вялые круги вяло тащило течением в Неву. Мои клеша отяжелели, как брюхатые козы, шинель умудрилась промокнуть насквозь, кончики бескозырочных ленточек завернулись в трубочки и повисли мышиными хвостами. А Галя полна была фокстротной радости с легкой примесью танговой печати. Она остановилась на горбатом мостике через Мойку и смотрела на толстых дворничих, которые валили в реку заблудший во дворах снег. Ей нравилось глядеть на плюханье снега в черную воду – в конце концов это было очередное замыкание всего сущего на круги своя. А я, скорее всего, глядел на какую-нибудь цепь, висящую из гранитных камней набережной, и думал о том, что летом на этой цепи сидела чья-нибудь красивая лодка и как вообще хорошо летом, когда летает тополиный пух и его так много, что хочется связать из тополиного пуха свитер} пух липнет на лужи, мальчишки пускают в лужах кораблики, кораблики облипают пухом, плывут трудно и садятся на пуховые мели. Вот о какой-нибудь такой чепухе я думал, когда мы переходили Мойку по горбатому, старинному, хлипкому мостику и Галя смеялась над толстыми от ватников дворничихами, которые сбрасывали с фанерных волокуш снег в городскую ненастоящую реку…
…Его мамы дома тоже не оказалось. И печка была нетоплена. Они затопили печку. Дрова были подсушены и разгорелись быстро. Поленья сразу начали стрелять. Они смотрели, конечно, на огонь. И она, конечно, боялась, что искра выстрелит ей на чулки, а он закрыл ей колени каким-нибудь старым пледом. И они гадали, куда им пойти встречать Новый год, но все не могли решить, потому что знать не знали, чего они хотят от Нового года и его встречи.
У них были коммерческие мандарины, маленькие, крепкие, холодные – те самые, которые так весело обвязывать ниткой и вешать на ершистые елочные ветки. И они ели эти праздничные мандарины до срока, а из печки светил рыжий теплый огонь. Они, конечно, несколько раз поцеловались, но он и духом не думал, что до грехопадения остаются считанные минуты. Зато она вела им точный счет. Она села возле него на корточки и обсыпала шикарным золотом волос его суконные колени, а от мокрого сукна клешей сквозь золото ее волос поднимался портновский парок. Он знал, что ей неудобно так сидеть и что по полу дует, и потому осторожно освободился, встал, чтобы открыть открытое поддувало. А она кидала в печку кожуру мандаринов. Кожура была сочная, гореть не хотела, но все-таки чернела с краев и жар углей просвечивал ее насквозь, кожура светилась китайскими фонариками…