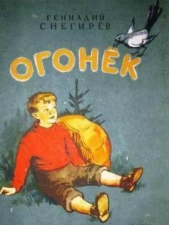«Огонек» - nostalgia: проигравшие победители
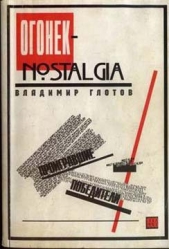
«Огонек» - nostalgia: проигравшие победители читать книгу онлайн
Журнал «Огонек» в конце восьмидесятых, на изломе эпохи, читала едва ли не вся страна.
И вдруг, после небывалого взлета, — падение с головокружительной высоты. До ничтожного тиража. До раздражающей, обидной эмоции. Почему? Орган демократии не оправдал надежд? Демократия обанкротилась? Читатель озаботился иным интересом?
Так или иначе, свой столетний юбилей журнал отмечает не в лучшей форме. Поэтому не лишне задуматься: кем же он был, журнал «Огонек» — шутом, которому позволяли говорить правду, пророком, блудницей?
Отсюда и «Огонек»-nostalgia. Однако книга не только о некогда сверхпопулярной редакции
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Тут же приютился домишко сторожа сада. Вернее, когда-то в нем действительно жил сторож, а теперь доживали век два пенсионера. Глубокий старик и бабка, на вид помоложе. По имени тетя Катя.
— Жалко ли вам сад? — спросил я, терзая себе душу.
— Жалко, — ответила тетя Катя. — Да мы каримся. Бузотер пришел, все поломал.
«Каримся» — это значит принимаем кару. А «бузотер» — ясно: бульдозер.
Что мог я сделать?
Написал статью, перечислив по имени и отчеству всех, с кем беседовал, назвал их головотяпами. Не обошел и генералов стройки. Мое донкихотство добавило каплю в чашу терпения, и без того переполненную. Партийное начальство нас не любило. Считало, что мы позволяем себе много лишнего. Все чаще нам ставили в пример газету времен Немченко. «Вот когда Гарик был редактором…», — говорили нам. Тогда, мол, газета была и боевой, и радостной. А теперь стала мрачной и злобной. Даже бравурные репортажи Веселовского не спасали. Ни отчеты с партконференций, ни стихи рабочих поэтов. Мы становились занозой в их собственном глазу и чувствовали: на нас катит лавина.
Повод для расправы не замедлил себя ждать.
Летом шестьдесят третьего года наш моряк Ябров отправился в отпуск, а я остался его замещать. Мы собрали очередной номер «Металлургстроя» и в типографию его повез Владимир Леонович, тем более что сам он написал обширную статью к юбилею Маяковского. Начало ее и должна было появиться завтра. Мы работали, что называется, ухо в ухо, мне и в голову не пришло просматривать, чего там Леонович написал.
Прочитаю в номере, решил я. Мы никогда не читали опусы друг друга заранее.
Собственно говоря, если бы я и прочитал его произведение «до того», ничего бы не изменилось. И линия жизни ни у него, ни у меня не стала бы ровнее.
Именно на это мне потом указывали: подменил принципиальность приятельскими отношениями. Ах, если бы наши идеологические пастухи знали, что я не просто «подменил», а — верх легкомыслия — вообще не читал до публикации, они бы меня тут же выгнали бы из многотиражки. А так — оставили, но объявили выговор.
Итак, напечатали мы ту статью. В ней Леонович среди прочего писал, что Вл. Федоров и А. Гарнакерьян и тому подобные идут по стопам тех, кто травил Маяковского. Цитировал стихи Евтушенко, чье имя и упоминать-то не полагалось, и в своих комментариях проводил прозрачные параллели: преступные действия по отношению к большим поэтам совершаются и сегодня.
Всю неделю мы публиковали статью — из номера в номер. Я, конечно, к тому времени, когда разразился скандал, изучил ее досконально. Нам дали выговориться. И когда публикация последней части завершилась, городская партийная газета язвительно обрушилась на нас. Это сделал главный редактор «Кузнецкого рабочего» по фамилии Баландин, человек не лишенный литературного дара, почитавший себя интеллигентом, с землистым, каким-то пыльным лицом, этакий породистый эстет провинциального масштаба и, конечно, отменный негодяй. К тому же попивавший.
Самый, надо сказать, распространенный тип «подручного партии».
Баландин назвал Леоновича «премудрым теоретиком». В то время, писал он, когда вся страна сказала большое и теплое слово о великом поэте, в «Металлургстрое» напечатали полную заумных суждений статью под заголовком «Живого, а не мумию». Баландин уличал нас в использовании юбилея Маяковского для защиты Евгения Евтушенко. Печально известного, писал он, своим недавним грехопадением (имелась в виду «позорная» «Автобиография рано созревшего человека»). Леонович, получалось, выплеснул наружу то, что усердно хранил на задворках души. Струсил высказать прямо на недавнем совещании творческой интеллигенции города (как раз на том, где громили художников-абстракционистов), воспользовался нетребовательностью приятелей — это камень в мой огород! — и позволил себе высокопарно вещать о каком-то творческом одиночестве великого советского поэта, о какой-то «революции духа».
И уже совершенно недопустимо, считал Баландин, объявлять «узким местом» такое понятие из Программы партии как воспитание нового человека. А именно это делает Леонович. Да еще допускает связь между Маяковским и Иисусом Христом — тут я бы, по правде говоря, согласился с критиком — да чего не скажешь в запале. И самое главное: Леонович позволил вопиющую бестактность. Он, подбоченясь, — так Баландин и написал, — разглагольствовал насчет сложного вопроса об отношении Ленина к творчеству Маяковского!
Это уже слишком! Ильич — святое.
Посыпались оплеухи. На стройку приехало в полном составе бюро горкома партии (пикник на обочине) для показательного разноса. Шамину, нашему «куратору» — «на вид». Белому, неприкасаемому парторгу — было «указано».
Но основной объект их внимания — конечно, мы. В зале в качестве статистов посадили толпу пролетариев — бригадиров, мастеров. Именно для них спектакль.
Подняли Леоновича. Он рад был высказаться. Но кто-то из президиума заметил его боевой вид, понял, что сейчас эта беспартийная сволочь испортит обедню, подсказал председательствующему — и Леоновича, так и не дав ему слова, посадили на место.
Подняли меня. И конечно, отыгрались, когда услышали, что я со статьей согласен. Объявили выговор.
Мы потом размышляли: что же сердиться на них? Они, в русле своей логики, поступили правильно. Мы для них — подрывная группа. Кем мы еще могли быть после идеологического пленума шестьдесят третьего года?
Перечитывая ту статью нынешними глазами, я вижу, как наивна она была. У Леоновича и Белинский, и Чернышевский, и Ленин, и Блок — все были «…бережны в отношении к своей душе, чисты в своих принципах… глухи к мелкостям бытия и мнениям черни». И Маяковский у него был с жизнью в расчете, был затравлен, оклеветан и расстрелян врагами коммунизма. И с Пастернаком мой друг не был согласен, считая, что агитки РОСТА и Моссельпрома написаны искренне, а не «в услужение» партии.
Я не знаю, как насчет Маяковского, но в искренности Леоновича я не сомневаюсь. Надо принять во внимание и время, когда происходили события, и наш возраст.
«Партии и поэзии нужны солдаты, а не услужливые „простаки“», — писал Леонович.
Он посвятил мне стихотворение, где были и такие слова:
Для него это был один ряд. Но его это не спасло. Баландина не проведешь. Тем более в статье были прозрачные намеки насчет обеспокоившей партийного критика «революции духа».
Леонович писал: «… чтобы она победила, потребуется переделать социальный мир… Все препоны на этом пути уже осознаны, осуждены и приговорены. Остается „только“ моральную гибель их сделать реальной».
Поблагодарим судьбу за то, что Леоновичу в тот раз не дали слова на показательном заседании бюро горкома. Пронесло.
Через месяц Леонович уехал в Москву, а я, на зиму глядя, опять ушел в бригаду.
С отъездом моего друга что-то произошло во мне. Стройка перестала меня занимать. Окружающая жизнь все более казалась пресной, провинциальной и бессмысленной.
Я оглядывался на прожитые в Сибири годы. Вспоминал, как вслед за нашим с Еленой прибытием пришел по железной дороге огромный деревянный ящик с книгами, его погрузили на машину краном, привезли, сбросили, он раскололся, книги рассыпались по земле, люди с удивлением смотрели на «добро» новосела, а я стопку за стопкой носил в дом. До сих пор обложки книжек несут следы мытарств, передвижений, мышиных набегов.
К чему столько усилий, метаний? Сплошная головная боль для близких людей. Мать собирала нам коробки посылок, их отправляли и родители Елены — бесчисленное множество. Из дома, с берега Черного моря, из Краснодара, их родного города, любовно паковалось что-нибудь «вкусненькое». Использовалась не только почта, но и проводницы вагонов, попутчики. Все это двигалось, ехало, летело, сопровождаемое сотнями писем. Сестра Елены Софья, вышедшая замуж за моего школьного товарища — того самого, с которым мы выясняли, где лучше набираться жизненного опыта, — среди собственных проблем находила время попереживать о нас, непутевых. Мы жили далеко — за четыре тысячи километров — нас жалели, о нас вздыхали.