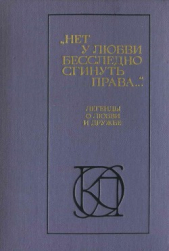Золотое весло

Золотое весло читать книгу онлайн
Книга о мужестве, о моральной силе нашего современника. Его героев объединяет умение бороться и побеждать. «Золотое весло» — это образ красоты человеческого духа с его устремлениями к высоким целям.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
История искусства — история духовной жизни человечества, тончайшие оттенки ее запечатлены на витражах, фресках, гобеленах, холстах… Поэтому тема Время в живописи охватывает и мир личности, и мир эпохи: на лучших полотнах Тициана можно увидеть в философском синтезе разные моменты духовной жизни эпохи — возрасты, разделенные в действительности бурными десятилетиями. В его гениальных портретах очарованность человеком сочетается с усталостью от него, восхищение — с состраданием, цельность — с усложнением, ощущение могущества — с тоской, сила — с бессилием… Передать это трагическое богатство духовных состояний эпохи дано лишь великой живописи.
Ну вот, теперь с надеждой, что буду читателем понят, я сообщу о том, что увидел однажды Эрмитаж в образе песочных часов, чья нижняя чаша полным-полна золотого песка, и у меня появилось, как в детстве, желание…
Нет, перед этим надо отметить, пожалуй, самую интимную и не рассмотренную нами до сих пор форму жизни Времени в изобразительном искусстве. Да, любая талантливая картина — синтез духовных состояний личности. Да, великие полотна — синтез духовных состояний эпохи, и история искусства — история идей. Но разве объясняет это, почему при виде уже раскрошившегося лица женщины, изваянного на Востоке три тысячелетия назад, в городе, чье название помнят сегодня лишь археологи, или перед доской из тополя, на которую четыре века назад дышал любовно художник, известный как «мастер женских полуфигур» или «мастер зимних пейзажей», мы испытываем чувство непосредственного соприкосновения с теми первоосновами нашей личности, первоосновами жизни нашего духа, которые в «рядовом состоянии» зашторены наглухо. Нас волнует узнавание себя, собственной души через века и тысячелетия (мы будто заглянули в сумрачный, уходящий в бездонность колодезь и увидели в выступившей на миг, почти неразличимой воде собственное отражение).
Но даже больше, чем узнавание, волнует таинственное чувство, что мы сами не узнаны этой женщиной, этими деревьями, этим небом. Мы видим, но нас не видят, и это рождает желание понимания, единства, ту жажду цельности, которая делает общение с образами искусства и радостным и мучительным, потому, что не бывает никогда утолима полностью.
Что же изменилось в человеке? Откуда эта радость-мука узнавания-неузнавания? (Ощущение, что мирно покоящаяся в полунаклоне к раскрытой книге мадонна «мастера женских полуфигур», безвестного нидерландского художника, тихо поднимет веки и меня не узнает, тревожит мое сердце непрестанно в том эрмитажном зале…)
Искусствоведческое мышление не дает на это ответа. Мы читаем: «Усложнились колористические решения…», «уточнились композиции», нам рассказывают о росте мастерства или об его утрате… А может быть, усложнилась человеческая душа? И растет именно она? И в усложнении и росте что-то утрачивает тоже она?
Нам говорят об «излишней детализации», о «сухости и мелочности стиля» или о расцвете «искусства мазка». А может быть, за этим тоже жизнь души?
Конечно, история искусства — история идей, но это и самый увлекательный из романов, героем которого может почувствовать себя любой из нас, это измеряемая тысячелетиями история души, ее путешествий и открытий, утрат и бессмертных осуществлений. Это великий роман о тебе и обо мне.
И может быть, поэтому захотелось перевернуть песочные часы, чтобы с наступлением начала бережно — тоже как в детстве — отдуть, отдышать папиросную бумагу на самом первом листе бесценного тома, чтобы увидеть отчетливо то, что она туманит?..
Разумеется, я лукавлю с читателем, отдаляя и отдаляя объяснение замысла этих «Писем», но мне кажется, что оно будет понято лучше, когда мы уясним себе более полно особенности этой таинственной вещи — Времени в искусстве. (В старину, когда были живы паруса, перед большим отплытием подолгу стояли на берегу, чтобы почувствовать море, и это помогало потом ладить с ним. Стихия нашего путешествия сквозь века — Время. Вот и мне хочется постоять на берегу.)
Почему же именно в изобразительном искусстве так интересно живет Время — интереснее даже, чем в литературе или театре? А дело тут в странной сути изображения.
Когда, до появления первобытного искусства, человек в поисках камней, которыми он побивал животных, нашел один, похожий на голову льва, его изумление, по-видимому, было безграничным. Раньше он видел отдельно льва и отдельно камень, и то, что лев может быть камнем, а камень — львом, было для него потрясающим открытием. Ни лев, ни камень сами по себе его не удивляли, но камень-лев не мог не потрясать воображения: он был одновременно и мертвым и живым, от него хотелось бежать, и хотелось рассматривать его бесконечно долго. Человек ощутил силу изображения, когда соединилось в чем-то, ранее понятном и даже послушном его руке (дереве, камне), мертвое и живое. И родилось нечто новое, существующее само по себе. Его особенно волновало это соединение мертвого и живого, потому что живое делалось не менее, а более живым. Почему во льве-камне больше жизни, чем в настоящем льве? Что за сила в нем заключена? Он ее не понимал. Имя ее было ему неизвестно. Но мы-то ее понимаем и можем назвать — ВРЕМЯ.
Эволюции на земле нужны были миллионы лет, чтобы совершить путь от камня ко льву, от дерева к оленю, а от оленя и льва к человеку. И в ту минуту, когда ему в камне открылся лев, его сознание и сердце вобрали в себя эти миллионы. И он улыбнулся — улыбнулся не потому, конечно, что ощутил себя «царем вечности», улыбнулся потому, что первый раз не было страха перед царем пустыни. В сущности, в ту минуту через изображение устанавливались новые родственные отношения между человеком и миром и даже (не убоимся торжественности) между человеком и вечностью.
Потом человеку улыбнутся первые статуи — создания первых художников, и ученые-искусствоведы века и века будут размышлять о тайне «архаической улыбки». Что она, техническая неумелость? Магия? А это само изображение улыбнулось человеку, как когда-то человек улыбнулся ему. И если бы первые статуи и не улыбались таинственной архаической улыбкой, человек все равно увидел бы их улыбающимися. Они и улыбались именно потому, что иными и не мог их тогда увидеть человек. Улыбался камень, ставший человеком, улыбался человек, узнавший в этом камне себя. И улыбалось… Время.
Оно и сейчас, через три тысячи лет, нам улыбается в образах древнегреческих куросов, и разве не хочется нам тоже улыбнуться в ответ?
И не складываются ли сами собой перед этим вечно живым камнем губы людей XX века в «архаическую улыбку»? И не кажется ли нам при этом лицо древнегреческой улыбающейся девушки (коры) сегодняшним, живым? И не в том ли таинственная суть изображения, что оно — синтез минуты и вечности? И это относится к любому изображению: от льва-камня или дерева-оленя, увиденного первобытным охотником на заре человеческой истории, до статуй Родена, от наскальных рисунков — изображений бизонов — в пещерах до этюдов импрессионистов. В одном из стихотворений Овидия девушка, стоя с возлюбленным на берегу моря, видит с нежностью его тень на мокром, омытом волною песке и хочет обвести ее, углубить, чтобы он в этих очертаниях остался с ней и тогда, когда уплывет к далеким берегам. Чтобы он остался с ней навсегда. В этом навсегда и заключено великое чудо изобразительного искусства.
Когда китайский мастер Ван Вэй (VIII век нашей эры) в трактате «Тайны живописи» писал о художнике: «он закончит деянье творца», и дальше совершенно дивно — о руке, которая «играет в забытьи», и о том, что «годы, луны вдаль идут и в вечность — и кисть пойдет искать неуловимых тайн», — он имел в виду торжество над самой странной и могущественной вещью в мире — временем: торжество, достижимое тогда, когда «сердце следует за вращением кисти», потому что лишь ему одному — человеческому сердцу — дано вобрать в себя непостижимую даль, что художники и философы зовут вечностью.
Удобная и «уютная» модель вечности — часы, любые, в том числе и песочные, с описания которых я начал мое письмо. Почему же, когда я увидел в образе этих часов Эрмитаж, мне захотелось их перевернуть? Чтобы «годы, луны» из вечности вернуть? Что это — тоже рука «играет в забытьи» в поисках «неуловимых тайн»? Нет… Тайна, волнующая меня, уловима. Я хочу охватить, понять богатства человеческого духа, сосредоточенные в Эрмитаже, как сосредоточена вечность в старых добрых песочных часах. Тайна уловима, как уловимы падающие песчинки, но она — тайна, и мне кажется, что никогда в истории человечества не было важнее, чем сейчас, в нее углубиться.