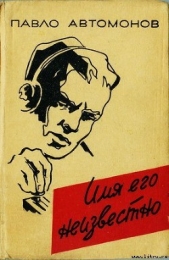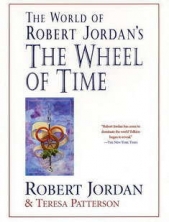Три грустных тигра

Три грустных тигра читать книгу онлайн
«Три грустных тигра» (1967) — один из лучших романов так называемого «латиноамериканского бума», по праву стоящий в ряду таких произведений, как «Игра в классики» Хулио Кортасара и «Сто лет одиночества» Гарсии Маркеса. Это единственный в своем роде эксперимент — опыт, какого ранее не знала испаноязычная литература. Сага о ночных похождениях трех друзей по ночной предреволюционной Гаване 1958 года озаглавлена фрагментом абсурдной скороговорки, а подлинный герой этого эпического странствия — гениальный поэт, желающий быть «самим языком».
В 1965 году Кабрера Инфанте, крупнейший в стране специалист по кино, руководитель самого громкого культурного журнала первого этапа Кубинской революции «Лунес де революсьон», уехал с Кубы навсегда и навсегда остался яростным противником социалистического режима. Сначала идиологические препятствия, а позже воздействие исторической инерции мешали «Трем грустным тиграм» появиться на русском языке ранее.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Я подпрыгнул. Не из-за Винсента, это он мог случайно услышать.
— Спорнем, я знаю, что ты хочешь знать?
Я промолчал. Только посмотрел на него пристально.
— Знает? — спросил у меня Сильвестре.
Я знал, что он знает. Козел. Я это сразу понял, как только с ним познакомился. В любом случае, достоин восхищения.
— Есче как знаю-у-у-у, — заверил Куэ, по-моему, с мексиканским акцентом, и Сильвестре то ли улыбнулся, то ли хихикнул глуповато:
— Что что что.
— Вот и держи при себе, — сказал я Куэ.
— Да что, что знает-то, — не унимался Сильвестре.
— С чего бы это? На меня же заклятья не накладывали. Я же не священный барабан.
— Что люди что, — нудил Сильвестре.
— Ничего, — отрезал я, возможно, слишком грубо.
— Напротив, — сказал Куэ.
— В смысле, напротив? — сказал Сильвестре.
— Много чего, — сказал Куэ.
— Чего много чего, — сказал Сильвестре.
Я молчал.
— Сильвестре, — начал Куэ, — он, — и показал на меня, — хочет знать, правда это или нет.
Кот играл с мышью. С двумя мышами.
— Что правда, — сказал Сильвестре. Я снова промолчал. Скрестил руки физически и умственно.
— Правда ли, что Вивиан дает. Или не дает.
— Мне без разницы.
— Дает дает, — заявил Сильвестре, стукнув кулаком по воображаемому столу.
— Не дает не дает, — передразнил его Куэ.
— Еще как, мать ее, — сказал Сильвестре.
— Мне без разницы, — тупо произнес я.
— С разницей, с разницей. Я тебе больше скажу. Ты свяжешься с Вивиан, а оно не женщина…
— Она малолетка, — сказал я.
— Что ж плохого-то? — удивился Сильвестре с немалой долей логики.
— Да никакая она не малолетка, — Куэ уже обращался только ко мне. — Я сказал не «она», а «оно». Оно пишущая машинка. И имечко у нее как у пишущей машинки.
— Что-что, — встрял Сильвестре, позабыв в пьяном безобразии одного из многих своих учителей, — поясни-ка.
Арсенио Куэ, артист, взглянул на Сильвестре и взглянул на меня — снисходительно, — выдержал паузу и сказал:
— Ты когда-нибудь видел влюбленную пишущую машинку?
Сильвестре задумался, а потом сказал: «Нет, никогда не видел». Я промолчал.
— Вивиан Смит-Корона — пишущая машинка. Что в имени? В этом — всё. Самая что ни на есть пишущая машинка. Только выставочный экземпляр, из тех, что стоят в витрине, и рядом надпись «просьба руками не трогать». Они не продаются, никто их не покупает, никто на них не печатает. Они для красоты. Иногда и не поймешь, настоящие они или муляж. Фикция, сказал бы Сильвестре, кабы мог это сейчас произнести.
— Я могу, могу, — возмутился Сильвестре.
— Ну, скажи.
— Пишущая машинка с фрикцией.
Куэ рассмеялся.
— Это получше будет.
Сильвестре обрадованно улыбнулся.
— Кто может влюбиться в пишущую машинку?
— Я, я, — сказал Сильвестре.
— Ты-то, ясное дело, да не ты один. — Куэ посмотрел на меня.
Сильвестре громко заржал, но поперхнулся. Я молчал. Просто стиснул зубы и смотрел на него в упор. Кажется, он попятился или, по крайней мере, убрал ногу. Он наступил мне на руку, но знал, что я не Тони. Тут выступил посредником Сильвестре.
— Ну ладно, пошли уже. Пойдешь с нами?
Куэ тоже меня позвал. Вот так-то лучше. Я решил вести себя цивилизованно, как сказал бы Сильвестре.
— А куда вы? — спросил я.
— В «Сен-Мишель», поглядеть на трансвеститов.
Но не настолько цивилизованно.
— Не прельщает.
Сильвестре ухватил меня за рукав.
— Не валяй дурака, пойдем. Может, кого знакомого встретим.
— Вполне возможно, — сказал Куэ. — Ночью всякое бывает.
— Допустим, — сказал я все еще будто с ленцой. — Но все равно неохота смотреть на всех этих пидарасов в действии.
— Да они безобидные, — сказал Куэ. — Живи и давай жить другим. Они за сотрудничество, за сожительство и за мирное сосуществование.
— Имел я их в виду. Хоть активных, хоть пассивных, хоть мирных, хоть немирных.
— Хоть дантов, хоть виргилиев, — сказал Куэ.
— Хоть на суше, хоть на море, — сказал я.
— А на воздухе? — спросил Куэ.
— Там они в своей стихии, — сказал Сильвестре, будто бы злорадно.
— Нет, спасибо.
— А зря, — сказал Сильвестре.
— Ты-то у нас любитель, — сказал Куэ с мстительной усмешкой.
— Да ты что, бля, сдурел, — отвечал Сильвестре. — Я просто посмотреть, как они танцуют, и все такое.
— Ему надоело, что Джин Келли всегда танцует с Сид Чарисс, — сказал Куэ, — а ты куда направишь стопы?
— Мне в «Национале» надо встретиться кое с кем.
— Загадочный такой, — сказал Сильвестре.
Поржали. Попрощались. Разошлись. Сильвестре распевал неверным голосом переделанную песню: Загадочный весь из себя, / явился и хочет быть главным / он, может, конечно, и славный / да больно загадочный весь из себя.
— Ньико Сакито, — проорал Арсенио Куэ. — Саната сиблямоль опусь Культур 1958.
Я никуда не пошел в ту ночь, так и остался стоять под фонарем, вот как сейчас. Я мог бы подцепить какую-нибудь девицу из подпевки после того, как в казино «Паризьен» закончится второе шоу. Но это означало бы оттуда в клуб, там выпивать, а потом в мотель и утром проснуться с окаменевшим обложенным языком, в незнакомой постели, с женщиной, которую и не узнать, потому что весь макияж она размазала по простыням и по моим губам и по мне, от стука в дверь и безликого голоса, мол, время вышло, одному принимать душ, отмываться от запаха постели, секса, сна, а потом будить эту незнакомку, и она скажет самым обычным голосом, будто мы уже десять лет женаты, с монотонной уверенностью, Пупсик, ты меня любишь, вот это она спросит, а должна бы спросить, как меня зовут, наверняка не будет знать, а я, поскольку тоже навряд ли буду знать, как ее зовут, отвечу ей, Еще как пупсик.
Я стоял и размышлял о том, что играть на бонго, или на тумбе, или на пайле (или на ударных, на литаврах, как говорил Куэ, давая понять, какой он образованный и в то же время ослепительный, сексапильный и всеми любимый за остроумие) означает быть одному, но не в одиночестве, это как летать на самолете, — я хочу сказать: сам-то я дальше острова Пинос не летал, — не пассажиром, а летать, как летает летчик, видеть из самолета распластанный внизу пейзаж в одном измерении, но знать, что измерения окружают тебя со всех сторон и что инструмент, будь то самолет или барабаны, ими управляет, и можно лететь низко и видеть дома и людей или лететь высоко и видеть облака и зависать между небом и землей, вне измерения, но одновременно во всех сразу, и вот я стучу, выстукиваю, наяриваю, расхожусь с мелодией, отбиваю ногой ритм, вымеряю его в уме, прислушиваюсь к трещотке внутри себя, которая все еще издает деревянный стрекот, хотя ее давно уже и в оркестре-то нет, считаю молчание, мое молчание, слушая оркестр, выделываю пируэты, завитушки, вонзаюсь, кружусь на левом барабане, потом на правом, потом на обоих сразу, изображаю авиакатастрофу, вхожу в пике, обманываю колокольчики, трубу, контрабас, вклиниваюсь безо всякого предупреждения, притворяюсь, что вклиниваюсь, вовремя выворачиваю, вхожу в рамки, направляю инструмент куда надо и, наконец, приземляюсь: играю с музыкой, дотрагиваюсь, выбиваю музыку из двух козлиных шкур, натянутых на деревянные ведра, из козла, увековеченного в блеянии, ставшем музыкой между ног, яйцами оркестра, вроде с ним заодно и все же настолько вне одиночества и вне компании и вне мира: в музыке. Полет.
Я все еще стоял и думал, с той самой минуты, как Куэ и Сильвестре отчалили любоваться райскими птицами в музыкальной клетке «Сен-Мишеля», когда мимо пронесся кабриолет и в нем, почудилось мне, Куба на заднем сиденье с мужчиной, возможно, моим другом Кодаком, а спереди другая парочка, и тоже в обнимку. Миновали меня и въехали в парк отеля «Националь», и я решил, что это не может быть Куба, она ведь, наверное, уже дома, спит. Кубе необходимо отдохнуть, она приболела, ей «нехорошо», она сама сказала: вот о чем я думал, когда снова раздался шум мотора, тот же кабриолет вновь проехал по улице Н и остановился в полквартале от меня, в темноте рядом с парковкой, и я услышал, как кто-то приближается, доходит до угла и сворачивает у меня за спиной, и я оглянулся и увидел Кубу с незнакомым мне мужиком, и обрадовался, что это не Кодак. Она, разумеется, меня увидела. Все зашли в клуб «21». Я остался стоять как стоял, с места не сдвинулся.