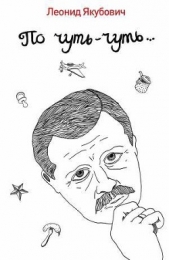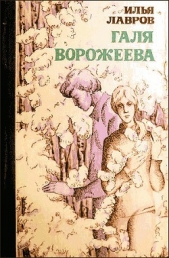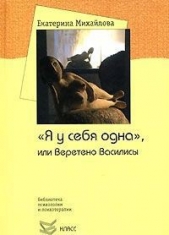Canto

Canto читать книгу онлайн
«Canto» (1963) — «культовый антироман» Пауля Низона (р. 1929), автора, которого критики называют величайшим из всех, ныне пишущих на немецком языке. Это лирический роман-монолог, в котором образы, навеянные впечатлениями от Италии, «рифмуются», причудливо переплетаются, создавая сложный словесно-музыкальный рисунок, многоголосый мир, полный противоречий и гармонии.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
И тут я вижу тебя, ты небрежно подходишь ко мне, ведешь себя приветливо и естественно, у тебя манеры помещика и взгляды землевладельца, которые ни с чем не спутать. Мы говорим о вещах, которые нас мгновенно объединяют. И уже вскоре мы сидим вдвоем за круглым столом, где-то в сторонке ото всех, нет, не совсем вдвоем, там ведь сидит еще один твой друг, совершенно другой породы, по имени Бальбек. Он совсем из другого теста. В темном, подобающем случаю вечернем костюме, грубые черты лица, темные въедливые глаза, он тут же очень настырно начинает наседать на новичка. И в то время, как мы создаем анклав и переходим к острым, ответственным темам, ему всякий раз нужны какие-то более дерзкие и свободные жесты, и все мелочи вечернего приема сливаются воедино в смеси алкоголя с музыкой — и улетают прочь, а музыка заполняет теперь все пустые места, все паузы, она соединяет и смешивает людей, она воспламеняет всех и вся. На ровной глади всеобщего бормотания вдруг взвиваются вверх фонтанчики смеха; вокруг поэта, облаченного в дымчато-серый, тонкий как паутинка туман собственной души, сгрудились девочки, два приземистых господина пустились выплясывать хали-гали, вихляясь изо всех сил, и последние одиночки, до сих пор не нашедшие себе партнера для беседы, втянулись в танец, а стипендиаты, вооружившись бутылками и забавными историями, устроили себе отдельный бивак.
Когда расходились уже последние, необозримые толпы гостей, позже, ты, Пиет, вынудил нас отправиться к тебе в мастерскую, где мы собирались продолжить праздник, там-то мы и закрепили наше знакомство, невзирая на развязность поэта, у которого оболочка души давно уже лопнула, невзирая на кривляние художника, который непрерывно приставлял к глазам крышки от бутылок, изображая монокль в глазу, а, впрочем, походил на угольщика и был с нами заодно.
Я в мастерской на следующий день. В ряду павильонов-мастерских, стоящих у посыпанной гравием дорожки, твоя дверь — последняя. На табличке — твое имя. И пока мы звоним в дверь, а потом ждем, у нас есть время бросить взгляд на парк. На эту немецко-римскую мечту с кипарисами, как на острове мертвых, кипарисами, которые нависают над ярко поблескивающим гравием змеящихся дорожек со столь же ярко блестящими прудами, и в черном пламени кипарисов повсюду — бюсты. А в самой глубине — бледная Аврора — вилла. Она — для торжественных приемов.
Пиет Питвик, склоняющийся над своими холстами, которые он расписывает прямо на полу, выводя на них потом какие-то буквы, пока все окончательно не превратится в густую мешанину красок. Зеркальный мир! Или же это — обшарпанная стена, испещренная знаками и рунами? Вот поблескивают огни города и глаза невидимых кошек, и начинает просыпаться утраченное язычество, возвращаясь вспять. А он уже склонился над новым холстом, он похож на рабочего, который измеряет уровень воды, или на землепашца, а еще больше — на полководца, склонившегося над картой. Да, у него есть свой край, своя живописная империя. А кроме того — точное представление о том, как устроены земли в его империи, и о том, как ее расширить. Он ведет точный учет.
Все стены уставлены Питвиком, и он все время за работой, он всегда встает спозаранку, чтобы работать все светлое время дня, и отвлечь его невозможно.
Испытующий взгляд, вот он снимает свою блузу художника и надевает куртку (как тогда, в год «Ч», после войны, когда он, видимо, сменил солдатскую шинель на блузу художника), и все — он готов.
Я пытаюсь посмотреть на себя его глазами: карманы мало чем отягощены, на лице — морщины беспокойства. Холост. Остается только присвистнуть. Какой-то бродяга, забавно, ведь у него нет удостоверения личности. В капкане этого города, который не может ему ничем навредить. Какое ему дело до Рима? Столица, которую он посещает, почитает, потребляет. А я? Мной он управляет, этот Рим. И я привязан к нему намертво.
Пиет Питвик — человек с собственным «я». Предприниматель, исследователь. Садясь в машину, он сразу оказывается в кабине пилота и ведет себя как пилот. Жужжат пропеллеры, а у автомобиля вырастает длинный острый клюв, который беззвучно прорезает воздух (даже если мы едем со скоростью пешехода), а сам он — орлиное око позади этого клюва. С ним приятно проводить время, приятно сидеть в кафе на обочине улицы, с ним и с его нерушимыми тылами. Он лишь на время отрывается от трудов, но изможденным не выглядит. Как игривое дитя и как помещик, смотрит он на этот Рим и на ножки девочек. Без удивления. На его белом, как мел, лице могут отразиться мелкие гадости, которые он в данный момент отпускает, он может разразиться сентиментальной тирадой — но при этом не обнажает душу. Однако во всем его существе есть и слабина, и сквозь эти слабые места среди потоков смеха, среди внезапной говорливости прорывается порой неожиданное. По этим потокам мы с ним пускаем кораблики и смотрим, куда они поплывут. Он называет меня братом. Почему? Я, должно быть, его другое «я», на которое у него нет времени. Поэтому кое-что из своих свободных фантазий, своих склонностей, ну и тому подобное, он внушает мне, сплетая их с моим свободным, как ветер в поле, разбродом никчемных мыслей. С моими праздными прогулками. И каждую из моих сумасбродных идей, которую он услышал от меня или выдумал сам, он немедленно объявляет устойчивой чертой моей личности, золотыми буквами вписывая ее в мою биографию. Хорошо, я буду твоим освобожденным от обязательств «я», твоим вольно странствующим братом, буду заменять тебя и твои глаза на всех мелодичных, симпатичных, но скандально-неприличных тропках. Зато приму от тебя на хранение покой, надежность твоего царства. Буду отдыхать время от времени в твоей тиши. Мы — два странствующих кресла друг для друга. Один есть отдохновение для другого.
Мы постоянно видимся, у тебя или — конечно, у Розати, где после завершения ежедневных трудов встречаются художники. Баночки и бутылки поблескивают там повсюду, придавая старинному кафе сходство с мирной аптекой. Группы стоящих художников тянутся там по всему сумрачному залу, вплоть до того места, где плетеные кресла образуют своеобразный мыс. Мыс, до предела населенный людьми, беседующими сидя в креслах, и теми, кто расхаживает между столиками, и вновь прибывшими, мыс на краю площади, которая своим обелиском, воротами, лестницами, церквами создает каменный театральный фон этому аперитиву. Из машин, которые неспешно паркуются возле кафе, раздаются крики, все моментально включаются в общий гомон. Здесь каждый — в авангарде, каждый — распорядитель или борец, защищающий себя самого; защитник собственной позиции и биографии, собственной славы — поэтому и не свободен. Зато я — свободен, нет у меня никакого дела всей жизни. Могу составить тебе компанию, чтобы благопристойно смыться, могу своим упорным идиотизмом снять напряжение застрявшего в тупике спора, а также прочих застрявших на мертвой точке дел. Я — одушевленный выход из неприятных конфронтаций, я предвижу их, и никому неведомая череда дней моих звенит шутовскими бубенчиками, украшающими край моей куртки. Разве обо мне что-нибудь известно? Известно, что я предпочитаю всяческую свободу, что я не работаю, такая вот у меня натура. Но, похоже, некая доля подозрения всегда следует за мной по пятам: что я, мол, отыскал пути к Риму, которые тебе, кузнецу-мастеровому, остались наверняка неведомы. За мною по пятам следует твоя надежда, я сам — воплощенное обещание. Долгожданное начало этому для тебя, художника, должен положить твой сводный брат, эдакий ярый сторонник. Так что ты вдвойне рассчитываешь на меня, ибо я есмь Рим. И все же внеси свой вклад в легенду, Пиет, будь моим свидетелем. Ты улыбаешься. Я бы не хотел в это ввязываться, говоришь ты; я давно решил отвергнуть подобные вещи, я ведь говорил уже — что? Что мое место под солнцем вовсе не здесь, не рядом с тобой, говоришь ты, — но тогда где же? В ночной забегаловке? Мое место под солнцем — в ночлежке?
«Вы для меня были сразу абсолютной реальностью. Раз — и вы уже здесь. Глаза нацелены на предметы. И вы сильно давите на собеседника, вот что я вам скажу. Интересно, отчего это давление — от любопытства, от естественной жажды познать жизнь? Может быть, это — желание проникнуть в нечто другое, изменить его? Или — просто пощупать? Прикоснуться? Вы сейчас приближаетесь к периоду культа собственной личности. Но потом вам придется пробивать себе дорогу в жизни, со всей силой, какая в вас есть, с силой, которая пока не востребована. Вы станете угрюмым. Сейчас-то вы вовсю жестикулируете, бдительно следя за собеседником, не спорю, проявляя скепсис, с мягкой иронией. В один прекрасный день вы оставите эту манеру. Вы перестанете ценить теплоту и мягкость иронии, если внезапно сосредоточите все внимание на себе самом.