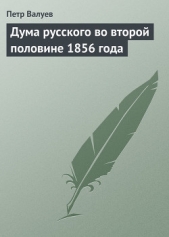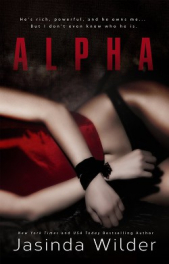Кто убил герцогиню Альба, или Волаверунт

Кто убил герцогиню Альба, или Волаверунт читать книгу онлайн
Захватывающий роман классика современной латиноамериканской литературы, посвященный таинственной смерти знаменитой герцогини Альба и попыткам разгадать эту тайну. В числе действующих лиц – живописец Гойя и всемогущий Мануэль Годой, премьер-министр и фаворит королевы…
В 1999 г. по этому роману был снят фильм с Пенелопой Крус в главной роли.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
(Мне кажется, что Гойя плачет. Он шумно дышит, но нет, не от слез, скорее это глухое бешенство. Он наливает стакан бренди и опять забывает предложить выпить и мне. Я показываю жестом, что хотел бы уже завершить нашу встречу, что мне пора уходить, но он энергичным движением останавливает меня. Он хочет закончить свой рассказ. Что ж, дослушаю его до конца.)
Все случившееся было похоже на дурной сон, начавшийся в тот самый момент, когда я вошел во дворец. И вот он кончился. Кончился ужасным пробуждением: ОНА умерла. И я знал как. Но у меня не хватило ума и сообразительности забить тревогу сразу же, как только я обнаружил пропажу банки с краской, – тогда ОНА была еще жива, а теперь какой был смысл говорить об этом, ведь ничего уже не поправить, не исправить, ведь Каталина с горничными начали готовить ЕЕ к погребению, а врачи спорили о причинах смерти, упоминая то летние миазмы, то прилипчивую инфекцию, то привезенную с юга желтую лихорадку. И ни разу в их споре не прозвучало слово «яд». Слово, буквально преследовавшее ее накануне с той минуты, когда я застал ее с серебряными белилами, которыми она мазала шею, и до того, как я стряхнул с ее руки зеленый порошок. Это были мои последние физические соприкосновения с ней, потому что к своему смертному ложу она меня не подпустила, не позволила коснуться ее, но я уже сказал, что об этом не хочу говорить.
На похоронах до меня дошли будоражившие город слухи, что она умерла от яда, а рука убийцы, подсыпавшая яд в ее бокал во время последнего ночного праздника, была все той же таинственной рукой, которая поджигала ее дворец, – рукой народного возмездия, но может быть, дон Мануэль, то была ваша рука, которой творила суд и расправу сама королева, нанося разящие удары из Ла-Гранхи? [89]Не полагаете ли вы, что мне следовало бы явиться в полицию и рассказать там обо всем, что я знал: о том, как исчезла банка с ядом, как бокал оказался вдруг тщательно вымытым, как она сначала в моей мастерской, а потом и во время прогулки по дворцу играла с мыслью умереть от желтой неаполитанской или серебряной белой краски? Но что дали бы мои показания? К чему они могли привести? В лучшем случае еще к одному расследованию… (Его и так провели, но я узнал об этом только потом.) И что это дало бы в результате? Доказали бы, что во дворце исчез смертельный яд? И утвердились бы в некоторых подозрениях, о которых мне доподлинно известно, что их породила клевета… [90]Но к чему сейчас перебирать все эти резоны? Я молчал по одной-единственной причине, которая заставляла меня молчать в течение двадцати лет. Молчал потому, что ее смерть была нашей – ее и моей – тайной. Последней. И возможно… единственной тайной.
Я вернулся во дворец, в мою мастерскую; к тому времени ее завещание уже было прочитано, и наследники заказали мне стенную роспись для ее усыпальницы. Тогда же я узнал, что было проведено расследование. Оно не дало никаких результатов, впрочем, обитатели дворца их и не ожидали, никто из них не верил ходившим тогда слухам. Я заперся в мастерской и с головой ушел в работу. Преодолевая отвращение, я вооружился терпением и готовил эскизы фрески. В случившейся трагедии для меня было только одно утешение: ее завещание включало пункт, касающийся меня, точнее, моего сына Хавьера: наследникам вменялась в обязанность пожизненная забота о нем. [91]Меня, собственно, обрадовало не столько содержание этого пункта, включенного в завещание, которое она составила в феврале 1797 года в Санлукаре, в самый разгар нашего счастья, сколько то, что ни моя последующая ревность, ни разрыв и отдаление, ни мои дерзости и мои, так сказать, «капризы» – ничто не заставило ее это завещание изменить. Такой она была натурой – верной и цельной, ничего общего с тем, что я, слепец, воспринимал как ветреность и небрежность.
В один из тех вечеров, когда я работал в мастерской над эскизом, появился Пиньятелли; он после ее смерти совершенно изменил свое отношение ко мне, стал необыкновенно мягким и грустным, что, думаю, было способом сохранить живой память о ней. Все мы во дворце так или иначе стремились к этому. Пиньятелли пришел сказать, что пункт, касающийся Хавьера, вступил в действие и наследники готовы выполнить и другое ее желание, оно не было включено в завещание, но они прекрасно о нем знали, поскольку она много раз так или иначе его выражала, и согласно этому желанию они собираются вручить мне хрустальный бокал, которым она пользовалась во время своих путешествий; по словам Каталины и казначея Баргоса, она при разных обстоятельствах неоднократно говорила, что бокал должен перейти ко мне, если ей доведется умереть раньше меня. Это был посмертный подарок. И вот теперь они решили передать его мне. Я знал, о каком бокале шла речь. О том, из которого в первый раз мы пили оба по дороге в Санлукар весной 1796 года, то было восхитительное вступление в нашу еще более восхитительную близость. И я помнил, конечно, как она говорила об этом бокале в домашнем кругу, заставляя меня краснеть, так как мне казалось, что все догадываются, что у нас с ним связано. Шесть лет протекло с тех пор, за плечами наш разрыв, ее смерть, и вот вдруг этот подарок как память о прошлом быстротечном, но полном счастье. Я с благодарностью согласился принять его. И Пиньятелли, порасспросив меня о моей работе, сказал, уже уходя: «Обратитесь к Каталине, дон Франсиско, бокал находится у нее». А я, разговаривая с ним, думал только о том холме у дороги, неподалеку от Эсихи, о том полднике, который мы устроили на нем в тени деревьев, вдали от капеллана и Каталины, о том, как она пила из бокала, как подносила его к своим ярким полным губам, как искала взглядом мой взгляд и, протягивая бокал мне, говорила: «Пейте, Гойя…» Тогда она еще не называла меня Фанчо. [92]
Вечером того же дня я разыскал Каталину в одной из комнат первого этажа, она была чем-то занята – она всегда бывала чем-то занята, – но тем не менее тут же предложила мне пойти с ней за бокалом. Она повела меня длинными коридорами в сторону часовни и, не доходя до нее, остановилась у маленькой двери и, достав связку ключей, отомкнула ее. Комната, в которую вела маленькая дверь, оказалась отнюдь не маленькой. К тому же это была не просто комната, а какая-то фантастическая сокровищница. Там хранились все богатства, которые должны были украсить дворец и другие ее дома, она собирала все это повсюду, покупала на аукционах, выписывала из Парижа, Милана, Венеции и даже из далекого Стамбула. Не буду описывать эти вещи, хотя они вполне того стоят. Просто вообразите, дон Мануэль, если можно вообразить невообразимое, роскошь гобеленов, эмалевых миниатюр, оружия, часов, мраморных статуй, фарфора, картин, хрусталя, люстр, диванов, курильниц… [93]Каталина открыла стенной шкаф, в нем в строгом порядке стояли керамические, фарфоровые и хрустальные стаканы, некоторые в единственном числе, не в наборах, там были представлены разные эпохи, разные стили, цвета и формы. «Этот, да?» – спросила Каталина, беря в руки хрустальный бокал, тот самый, с которым Каэтана путешествовала, из которого пила во время коротких остановок в пути, кажется, баварской работы, массивного хрусталя алмазной огранки, разбрызгивающий бриллиантовые и рубиновые искры, на редкость красивая вещь, однако мои глаза как магнитом притягивал другой бокал, стоявший на верхней полке: сине-золотой, венецианской работы, с прекрасной эмалью. Никогда в жизни я не лгал так нагло: «Нет, не этот, а тот синий, – сказал я твердо, – я присутствовал, когда ей подарил его папский нунций, и он мне так понравился, что она выразила готовность тут же отдать его мне, если бы это не выглядело неуважением к прелату». Отчасти это было правдой – я действительно присутствовал, когда прелат вручал ей подарок, и действительно восхищался этим маленьким шедевром, – но не думаю, что такая полуправда делала мою ложь более правдоподобной. Каталина, никогда не имевшая задних мыслей и считавшая меня, как я полагаю, таким же прямодушным человеком, как она сама, взглянула на меня с удивлением, но это длилось лишь мгновение. В следующую секунду она уже приняла решение, сняла с полки венецианский бокал и отдала его мне. «Этот так этот, – сказала она, – возьмите какой считаете нужным». Дело было сделано.