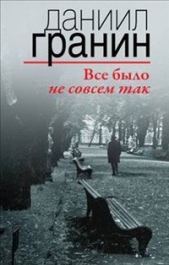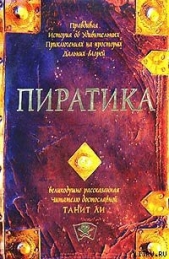Моя другая жизнь

Моя другая жизнь читать книгу онлайн
«Моя другая жизнь» — псевдоавтобиография Пола Теру. Повседневные факты искусно превращены в художественную фикцию, реалии частного существования переплетаются с плодами богатейшей фантазии автора; стилистически безупречные, полные иронии и даже комизма, а порой драматические фрагменты складываются в увлекательный монолог.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Когда старуха всецело завладела вниманием толпы, я пробрался к Амине и был рад, что она не шарахнулась прочь.
— Я видел тебя в церкви.
— Да.
— Но ведь ты мусульманка.
— Я хожу с бабушкой. Она христианка.
— А ты заметила, что я за тобой наблюдаю?
— Да. — Она нервно втянула воздух ноздрями. — Только не знаю почему.
— Потому что мне очень нравится на тебя смотреть.
Она снова сморщила нос, часто-часто заморгала.
Мои слова ее явно смутили.
— Как ты поняла, что я на тебя смотрю?
— Потому что я смотрела на тебя.
Забавно. И хотя она отводит глаза, она не так робка, как я думал. Да и в сторону глядит, возможно, вовсе не из робости, а потому, что на «лендровер» в это время грузят, подтягивая на грязных веревках, огромный сундук с вещами отца Тушета. Отец де Восс уже заводил мотор, а отец Томас сидел с ним рядом, мрачноватый и надутый, словно родитель, недовольный тем, что его чадо исключили из школы. Отец Тушет сидел сзади как в воду опущенный, а прокаженные толпились вокруг машины и глазели на него: их, похоже, воодушевляло поражение этого несчастного mzungu.
Отец де Восс и рад был бы не придавать делу такую огласку, но в Мойо, где жизнь годами текла без перемен, отъезд отца Тушета стал значительным событием, которое будут вспоминать не год и не два.
— Alira, — пробормотал кто-то из прокаженных. «Он плачет».
Было странно видеть, как взрослый человек, сидящий в машине, закрывает лицо руками и между пальцев его текут слезы. Толпа, все эти худые, убогие, увечные, босые, оборванные люди удивленно таращили глаза. Руки-ноги у большинства были в грязных бинтах. Они примолкли, только пялились, разглядывали его в упор. И от их безжалостного любопытства отца Тушета делалось еще жальче.
Меня всегда раздражало то, как он носится со своим требником, поминутно заглядывает в него и ведет с ним какой-то незримый диалог. Я возмутился, когда он отказался помочь мне таскать кирпичи, заявив, что ему надо крестить. Молитвенник в его руках был вроде талисмана, призванного уберечь хозяина от какой бы то ни было работы. Так прокаженные пользовались своей болезнью. А еще отец Тушет носил сандалии не на босу ногу, а с носками и выглядел от этого очень глупо. Мне вдруг подумалось, что безумца часто можно распознать по одежде.
— Он ваш друг? — спросила Амина.
— Нет.
— Но он ведь mzungu.
— Мне приятнее говорить с тобой.
Я хотел даже добавить, что рад, что он уезжает: мнительный, нервический человек, всеобщий креститель и обратитель в истинную веру. И к тому же брюзга. «Дикари», — говорил он каждый вечер, едва в деревне начинали бить в барабаны. Но, возможно, я и без того смутил Амину своей прямолинейностью, потому что, как только отъехал, взметнув клубы пыли, «лендровер», она незаметно исчезла.
В тот вечер барабаны бухали громче обычного, из деревни неслись крики, вопли и еще какие-то судорожные, панические звуки. Я помнил, что в бреду под барабанную дробь мне всегда мерещилась Амина, я представлял ее ярко, осязаемо: стройная фигура извивается, сияет, рог приоткрыт, глаза не видят, словно расширенные наркотическим дурманом.
Удовлетворение плотского желания всегда было для меня осуществлением фантазии, оно не должно было произойти внезапно, по наитию, наоборот, я загодя изучал, представлял, грезил и — тщательно подготавливал себя к этому счастью, к воплощению мечты в реальность. Желание созревало во мне исподволь, и я не удивлялся ему, я заранее чуял это томление — изначальное, глубинное, — оно уже имело во мне свою историю, проступало как смутное, но уже мелькавшее в фантазиях объятие. Точно подарок, которого давно и бесплодно ждешь. А потом, когда все становилось вдруг реальным и достижимым, я брал свое — уверенно и безошибочно.
Много вечеров назад буханье барабанов, сотрясая раскаленный воздух, долетало до моей одинокой спальни. Точно такой же звук получался, когда женщины толкли в ступе зерна маиса тяжелым каменным пестом. И если работали одновременно несколько женщин, удары, сопровождавшиеся слаженным оханьем и кряканьем, синкопировали в кронах спящих деревьев.
— Сегодня в карты не играем, — объявил отец де Восс.
Не было нужды объяснять, что делается это из уважения к отцу Тушету, который карты ненавидел. Многое выводило его из себя, и не в последнюю очередь наши ежевечерние карточные баталии. Ладно, отложим карты до завтра.
— Никаких карт! — воскликнул брат Пит, принимаясь за шитье. — Pepani, palibe sewendo! «Простите, никаких игр!»
Мы словно чтили память усопшего. Собственно, покинуть Мойо и означало умереть, поскольку жизнь за пределами Мойо была совсем, совсем иной.
— Надеюсь, ему полегчает, — произнес я.
Отец де Восс, будто прочитав мои мысли, сказал:
— Он не вернется.
Из деревни донесся дикий вопль и вспышка света, как будто в костер бросили огромную охапку сухой соломы или маисовой шелухи и она занялась вся разом.
— Они никогда не возвращаются.
В этот миг казалось, что жизнь в Мойо сосредоточена там, внизу, в деревне прокаженных, и барабаны отбивали неровный, сбивчивый ритм этой жизни — стучало не дерево о дерево, а живая кровь в висках.
Брат Пит штопал при свете лампы, отец де Восс сидел рядом, и тени падали ему на лицо. В любом другом месте он бы читал, писал письма, рассматривал картинки. Но он жил в Мойо, пустом и голом, как сама саванна. Священники выглядели как старая супружеская пара.
Я пожелал им спокойной ночи и ушел к себе в комнату. Там я подошел к окну, взволнованный, нетерпеливый, готовый нырнуть во тьму. За тьмой начинались деревья, освещенные огнем костра. И на фоне пламени каждая ветка проступала черно и четко.
Выскользнув из дома с заднего крыльца, я устремился вниз без дороги — на огонь и гром барабанов.
Немногочисленные зрители образовали редкий круг, а остальные — почти вся деревня — танцевали: женщины с одной стороны, мужчины с другой; они шаркали, притопывали, трясли головами, размахивали руками, что-то выкрикивали. И тяжелая их поступь отдавалась в каждой клетке моего тела, словно танцевали прямо на мне.
Мужчины хлопали в ладоши, а женщины гортанными, пронзительными голосами выводили какую-то мелодию вроде страшного и победного военного клича. Вырезанных из дерева масок не было, зато были раскрашенные лица, самым, впрочем, страшным из которых оказалось лицо, обсыпанное белой мукой. Этот прокаженный нацепил еще и белую простыню и держал впереди себя распятие. Женщина, что танцевала прямо против него, тоже была замотана в простыню. Выходило, священник и монахиня извиваются в двусмысленном танце, не то пародии на половой акт, не то настоящей ритуальной пляске, не то дикой смеси того и другого.
Прокаженные танцевали на своих омертвелых, толстых от бинтов ногах, издавая звуки гулкие, как удары деревяшек. Мальчишки, в собачьих или обезьяньих шелудивых шкурах, а в остальном совершенно голые, бегали на четвереньках среди вопящей и топочущей толпы.
Из тени, со стороны хижин, появилась другая группа. Эти люди тащили к костру какое-то сооружение вроде кукольного домика. Разглядев грубое подобие пирамидального купола, я понял, что это церковь. Домик покоился на небольшой платформе, а платформа опиралась на шесты, и получалось что-то вроде высоких носилок.
Стало ясно, что тут есть сюжет и я пропустил завязку. Танцевали-то уже больше часа. Я слышал барабаны и во время, и после ужина, когда тихо сидел в обители со священниками. Танец меж тем достиг такого накала, таких страстей, что в круг впрыгнули даже те, кто до этого стоял поодаль. И уже не различить было танцоров и бывших зрителей, все двигались, топали, хлопали и, содрав с себя одежду, размахивали лохмотьями.
Беснующуюся процессию возглавляли замотанные в простыни «монах» и «монашка». Сразу за ними несли шаткую церковь, сделанную из бумаги и палок. Не то избыточное почтение, не то искусное издевательство.