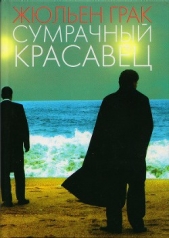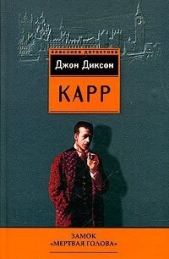Замок Арголь
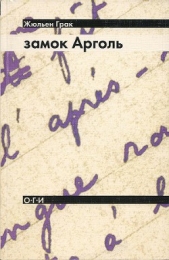
Замок Арголь читать книгу онлайн
«Замок Арголь» — первый роман Жюльена Грака (р. 1909), одного из самых утонченных французских писателей XX в. Сам автор определил свой роман как «демоническую версию» оперы Вагнера «Парсифаль» и одновременно «дань уважения и благодарности» «могущественным чудесам» готических романов и новеллистике Эдгара По. Действие романа разворачивается в романтическом пространстве уединенного, отрезанного от мира замка. Герои, вырванные из привычного течения времени, живут в предчувствии неведомой судьбы, тайные веления которой они с готовностью принимают.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Наконец ночь нависла над лесом, и небо открыло все свои звезды, но ничто не могло остановить их божественного шага, охраняемого недрами лесного храма лучше, чем то могли бы сделать сфинксы, сторожащие аллеи египетских гробниц. Доверие,которое свелось у них к состоянию чистой добродетели, схожей с млечными испарениями залитой луной ночи, снизошло на них во всей своей первозданной прелести. Как когда-то прежде, в день печали, на равнинах вод, так и теперь для них нет уже более возможности отступления. Но ночь продолжается, и аллея растягивается во всю свою роковую длину. И им обоим ведомо, что путь их кончится не ранее, чем с наступлением утра в его восхитительном великолепии. Их переплетенные пальцы и сомкнутые плечи образуют теперь одно нерасторжимое целое, и эти двое, закрыв глаза, смертельно продолжают свой зачарованный путь, простоволосые, ступая босыми ногами по мху знаменитых рыцарских романов, и каждое их движение несет на себе явный признак того ложного изящества,что представляется в сотни раз более пугающим, чем истинное.
Долго еще длились часы глубокой ночи. И неясное чувство, которому они не могли сопротивляться, охватило душу Гейде и Альбера. Им показалось, что планета, уносимая в глубины ночи, которую она бороздила гребнем своих деревьев, в волнении опрокинулась назад, следуя упрямому направлению этой аллеи, более неправдоподобной, чем линия экватора, более насыщенной, чем солнечный луч, мелом обозначенный на черной доске. И, словно поднятые невероятным усилием на самую крышу лысой планеты, на ночную вершину мира, они чувствовали в божественно холодном ознобе, как солнце обрушивалось под ними на огромную глубину, и освобожденная аллея открывала им каждую секунду тайные и неизведанные тропы настоящей ночи, которую она насквозь пересекала. Так в молчании лесов, едва отличном от молчания звезд, прожили они вместе ночь мира во всей ее звездной вольности, и вращение планеты, ее вдохновенная орбита, казалось, повелевали гармонией их самых обыденных движений.
Но теперь им уже казалось, что они пересекали низкие и заболоченные равнины, прорезанные стоячими водами, где вздернутые словно пики камыши сохраняли свою сверхъестественную неподвижность; затем дорога медленно взбиралась на гигантский холм, разреженный воздух которого предвещал еще более неизмеримую высоту — и часто они жадно поворачивались, чтобы предугадать изломы пейзажа, еще полностью сокрытого плотной завесой ночи.
Однако их безумная тревога начала утихать. Легкий ветер упал с черного неба, сложив его траурными складками во всю толщу того, что вначале казалось неведомой и не поддающейся названию материей первобытного хаоса, но стало затем тяжелым покрывалом серых облаков, парящим над всем этим пейзажем ночного кошмара. Утро прогнало своим крылом дрожащее пространство чистого одиночества. И, словно по внезапному сигналу оповещающей о тревоге пушки, Гейде и Альбер остановились. Гигантская аллея заканчивалась на самой вершине плато. Посреди гладких песчаных равнин, по которым в этот момент пробегал печальный утренний ветер, то появляясь, то словно исчезая в причудливой игре клубов тумана, открывался большой круг, непосредственно отграниченный по краям нежной и светящейся зеленью газона, служившей ему верной оградой, который своим блеском отчетливо выделялся на фоне исступленных, взъерошенных и вообще — то совершенно мрачных кустарников, покрывавших холм. Линии повсюду рассеянных в небрежном порядке камней, которым лишайник придавал цвет долго отбеливаемых дождями костей, подчеркивали его непомерную для глаза окружность и усиливали в душе растерянность, справиться с которой было уже невозможно. Потому что сходящиеся здесь в одной точке аллеи, во всех отношениях абсолютно схожиес той, по которой шли Гейде и Альбер, направлялись сюда со всех концов горизонта, где только взгляд и мог охватить их широкую перспективу. Мне было бы сложно объяснить читателю, [106]какое впечатление на Гейде и Альбера произвело это в прямом смысле слова неуместное проявление согласованных усилий природы и искусства, не указав, что наиболее убедительной причиной охватившего их удушья была безвозвратная и вместе с тем непонятная необходимость.Может быть, одно лишь слово rendez-vous, в том двойном смысле, [107]который в нем заложен, и благодаря игре — глубинную жестокость которой мы можем здесь осознать — точных и согласованных движений и в то же время полному отказу от всех собственно защитныхрефлексов, могло бы передать то безумное впечатление, которое на зрителей этой сцены незамедлительно производила порочная ненужность ее грандиозной декорации.
Между тем, пока они, как потерянные, бродили посреди обрывков мрака, все еще нависавших над этими возвышенностями, до слуха их дошел топот копыт отпущенного на волю коня, а вскоре, оживив пустыню плоскогорья беспорядочным бегом, перед ними появилось и само животное, разбрызгивая во все стороны пену, покрывшую его круп; на спине его — словно источник конвульсий, время от времени сотрясавших в яростном брыкании его тело, — можно было различить пустое седло. И оба тогда узнали — с дрожью внезапного ужаса признали по этому пустому седлу — любимую лошадь Герминьена.
Лежа в траве, скрюченный, более неподвижный, чем пораженный молнией камень, со странной и текучей неопределенностью огромных отверстых глаз трупа, словно посмертно оживленных на его лице таинственной рукой, с веками, тронутыми величественным гримом смерти, этого бередящего душу своей недосказанностью бальзамировщика, Герминьен распростерся рядом, и его открытое лицо в леденящей обнаженности утра излучало молчаливый ужас, словно сама чернота преступления, по иронии кровавой судьбы свершенного здесь без свидетеля, проступила на лице жертвы. А рядом с ним масса песчаника, наполовину закрытого травой, была той самой глыбой, о которую, должно быть, споткнулась его лошадь.
В молчании они приподняли его и раздели, и обнажился торс, бледный, могучий и нежный — взгляды их упорно избегали тогда друг друга, — а на его боку, под ребрами, там, куда попало копыто коня, открылась отвратительная рана, черная и кровянистая, окруженная темными запекшимися разводами, словно кровотечение остановилось лишь под воздействием волшебных чар, а может, и какого-то приворотного зелья. Жизнь постепенно возвращалась под их руками, и вскоре ворота замка захлопнулись за раненым в молчании, полном предзнаменований. И в течение всего серого и призрачного дня, совершенно похожего на полночное волшебство, когда белый диск солнца упрямо скрывается за густыми туманами, Альбер продолжал блуждать по пустынным коридорам, освещенным словно нереальными отблесками снопов света, беспрестанно рассеиваемого белым, нежным и словно бы слепым небом, — в состоянии напряженного волнения, характер которого трудно было бы определить иначе, как бдение,доведенное до своего высшего напряжения. И когда он проходил перед закрытой дверью комнаты Герминьена, за которой робкий звон стакана, музыкальная и удивительная мелодия отдельного вздоха заимствовали посреди напряженного молчания саму торжественную и неясную интонацию жизни и смерти, то кровь стучала и воспламенялась в нем мощными искрами. Изнуренный усталостью, он лег перед этой закрытой дверью, и печальные картины посетили его. Сон, казалось, очень быстро перенес его в те отдаленные времена, когда в разгар спокойных летних ночей возбуждающие прогулки по заснувшему Парижу увлекали его и Герминьена, и им обоим открывалась тогда — в беседе, что нередко прерывалась молчанием и вела их по прихотливым извивам улиц к тогда еще таинственно пустынным подступам Люксембургского сада — все великолепие ночной листвы, освещенной электрическими фонарями и более восхитительной, чем иные театральные декорации. Меж тем вот уже несколько мгновений, как среди неотвязного потрескивания дуговых ламп слух их, казалось, уже полностью отвлекшийся от восприятия бессвязных слов, начал различать за высокими черными стенами, что ограждали вид со всех сторон, ровный и в высшей степени трогательный шум, оказавшийся вскоре ропотом коленопреклоненной толпы, что молилась прямо на улице в усердии самого неистового экстаза. В те времена их постоянно влекло в район тех узких и неизменно пустынных улиц, что соединяют площадь Сен-Сюльпис с улицей Вожирар. Мало-помалу гул голосов — так показалось им — подобно красной иллюминации заполнил небо, и, посреди молчания звездной ночи и всеобщего потрескивания ламп, раскат этих множившихся голосов окончательно привел их в замешательство. И тут одновременно они узнали,и оба, не глядя друг на друга, поняли, что знали. Это о душе Герминьена, осужденного на смертьГерминьена молилась толпа, и приговор ее был обоими мгновенно принят с героической решимостьюбезразличия. Сделав несколько шагов, они проникли под крытый вход сумрачного дома. Перед ними — и, видимо, сообщаясьс улицей посредством особого явления, заключавшегося в том, что, по мере того как слабее становился шум уличных молитв, в точности в той же прогрессии усиливался гул похожих голосов, характер которых казался, однако, необъяснимо внутренним— открылось нечто, тут же оказавшееся, судя по большой черной доске с нарисованными на ней мелом ребяческим почерком буквами, по внешнему виду гладких и странно маленьких столов и стульев, ничем иным, как школьной залой. Разместившись на низкой и длинной эстраде, в ней заседали судьи, и сквозь открытую дверь можно было услышать, как поднималось вверх невнятное гудение их голосов, бубнящих в унисон с причудливой напыщенностью. Между тем среди немногих присутствующих, что в полумраке заполняли скамьи залы и глупые лица которых — так казалось ему — отражали на редкость нудныйхарактер процесса вынесения судебного приговора, сквозь забавно изрезанную линию горизонта, образуемую скоплением размещенных против света спин и силуэтов, Альбер смог наконец рассмотреть опасный инструмент пытки, который словно состоял из двух длинных деревянных перекладин, [108] свободно перемещающихсяв пространстве на фоне черной доски, словно пред этой ставшей волшебной поверхностью таинственная игра двух прямых линий в пространстве,которые бессильная рука мастера столько раз уже пыталась призвать в лоно пространства, теперь уже реального, получила существование — сама грубость и странное несовершенство которого казались печатью страшной реальности — и начала наконец совершенно самостоятельно пагубную и волнующую оргию своих непредсказуемых движений. И тогда Герминьен взобрался на сцену перед доской, став в одно мгновение живым центром внимания залы. Вначале казалось, что длинные деревянные перекладины, более проворные, чем спицы вязальщицы, стали совершать вкруг него свой бесконечный и грациозный танец, в котором игра постоянно варьирующихся углов сама по себе представляла глубокое развлечениедля духа; затем движение ускорилось и, словно посреди резких скачков разбушевавшегося зверя, вырисовались лебедки, душераздирающие, словно танец шпаг. И тут перекладины — в движении неожиданно затихшем, странном и чрезмерно медлительном — впервые попытались встать параллельнои, приблизившись друг к другу в движении, ставшим теперь уже неумолимым, сообщили своему опьяняющему экзерсису неопределимые переливы цветов, неожиданно ожесточенный и лихорадочный характер смертельной игры, поскольку шея Герминьенаоказалась теперь между ними, и, в порыве страстного внимания, все присутствующие мгновенно осознали это. И для всех отныне стало ясно, что две перекладины в своем параллельном движении чисто геометрических прямых, абстрактный характер которого во все время этих игр магическими палочками ни на секунду не выходил из поля зрения, создавая теперь всю реальность испытываемого ужаса, более не хотели ни поглощаться друг другом, ни возвращаться к первоначальному единству. Посреди напряженного молчания, под давлением, выносить которое становилось уже невозможно, раздался ни с чем не сравнимый звук хрустнувших хрящей. И тогда на доселе невозмутимом лице Герминьена — словно первая трещина на здании, которая именно в силу своей незначительности, кажется, уже содержит в своей роковой и еще неощутимой новизне весь грядущий ужас землетрясения, — первая неявная морщина в уголках его губ показалась знаком отвратительного и сокрушительного изменения черт — и на самом пороге безумия некая благочестивая рука отвернула голову Альбера, и он узнал тогда, рядом с собой, — он осознал ее присутствие по тому только, что она одна отвернулась вместе с ним — Гейде.