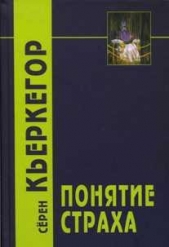Страх

Страх читать книгу онлайн
Главная особенность Постнова в том, что он в отношении своих диковато-уютных фантазий безупречно стерилен: он, словно пузырек воздуха, помещенный в общую воду и оттуда, изнутри этого пузырька, рассказывающий о жизни, как она ему представляется.
Андрей Левкин
Олег Постнов — один из самых удивительных авторов, пишущих сегодня по-русски…
Макс Фрай
Среди самых шумных романов 2001 года, скорее всего, окажется и «Страх» Олега Постнова.
Вячеслав Курицын
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Тоня там? — спросил я. В конце концов Гамлет тоже торговался, да еще с отцом. Она наклонила голову: нет.
— Ну так и я не пойду, — заявил я решительно: я опять говорил по-малоросски. — Я хочу только ее. Больше мне ничего не надо.
И я вновь погасил зажигалку. Это я сделал машинально — зеленый свет мне казался надежным, но он вдруг тоже погас. Я очутился во тьме.
— У вас худо с режиссурой! — крикнул я. Это было мальчишество, но я не привык болтать со своей судьбой. Да и не так уж это было глупо: пусть читатель вспомнит хотя бы только свою собственную жизнь. Я повернулся и пошел прочь. Холодный воздух, потом духота подземки не отрезвили меня. Мало того, среди пассажиров я различил двух-трех с явной зеленью на лице — из моего кошмара. Да и вообще, людность вокруг не рассеяла меня. Она и раньше не шла мне на пользу. Но сердце остановилось, когда, открыв дверь, я услыхал в квартире шаги: я вовсе забыл, что не дал Тоне ключ. Я тут же поплатился за эту свою оплошность: дядя Борис с голым брюхом, но почему-то в подтяжках, разгуливал возле шкапа, проклиная на чем свет стоит командировку и Москву. Гостиница была скверной, сказал он, с клопами. А в поезде он порвал чемодан. У матери он не был, не успел, за что извинился. Я тотчас простил его. Я отдал ему ключ, спросил о Мее и ушел навсегда. Кажется, я даже и вообще больше не бывал никогда на Троещине. В тот же вечер я выехал поездом домой, завершив тем самым казенную рокировку. В купе было два старика. Один трогательно ухаживал за другим — тот страдал почками. Всю ночь они не давали мне спать. На вокзале накрашенная девица предложила мне быстренько совокупиться с ней в мужском туалете за умеренную плату. Я был измучен, но не бессилен — и не отказал ей. С благодарностью вспоминаю ее. Ее лоно было узеньким и нежным — как у Тони.
XXII
Впервые мне довелось войти в дом без копейки денег: последние десять рублей унесла моя послушница с вокзала. В этот раз, однако, я был настроен решительно: меня больше не смущали условности, я готов был с порога отправиться к тете Лизе на Парковую, а с нею вместе хоть к Ч*** на кулички, хоть прямо в Киев. Я даже хотел все ей объяснить. Оказалось, однако, что это невозможно: мать лежала в гриппе, и я вновь — в который раз — поразился непостижимой связи между Тоней и горячкой; я был убежден, что и сам через день свалюсь. Этого не произошло; авторы судеб не любят ни критики, ни догадок. Зато мать поправлялась плохо. Прошел месяц, она все еще не была на ногах. Участковый врач качал головой, глядя на ее анализы. Я бесился в душе, но ничего не мог поделать. Она и впрямь нуждалась в уходе. Наконец стало ясно, что у нее нарушения в крови. Диагноз не ужаснул меня лишь потому, что я его не понял: миеломная болезнь. Мне сказали, что с этим живут лет пять. Она прожила три — как я теперь знаю. Она решила наперед, что откажется от химиотерапии. Кажется, она хотела принять яд, но пока не спешила. Я старался ее подбодрить. Во всем этом мне снова чудились дела нездешних рук. Отец, правда, вовсе почти избегнул уз и страдалищ московских клиник, но лишь благодаря проворству своей смерти, на которую теперь вряд ли можно было бы положиться: после встречи в подъезде я знал в душе точно, что у меня с ней есть свои счеты, по которым еще невесть как предстоит заплатить. Первой была мать…
И вновь потянулись для меня ночи, полные теперь уже ненавистных грёз. Бессонница побеждалась по временам — все чаще таблеткой, — но в очень неглубокую могилу моего сна (цитирую: Гессе) норовили впасть всё те же старые знакомцы: то Рокуэлл Кент обращался — как зал в раздевалку — в Итало Зетти и подымал стилизованные складки со стилизованных дамских прелестей, коих я не успел коснуться; то чешуйчатый Климт, словно дракон, вползал в устье моей дрёмы, и золотые чешуйки гасли и расплывались на внутренней стороне век; то чортов Байрос-Бердслей протягивал пудреницу столь круглую и мягкую, что очень кстати был к ней тампон в руке: вылитый годемише. Я погружал его в нее и… словом, я вовсе не согласен был все это терпеть.
День я наполнял работой. Именно в это время мной были переведены послания и проповеди Джона Донна (среди них блестящая по бесстыдству «О неверности жен»), подборка из Блейка, затем Чиверс, Ките… О Блейке, кстати, я написал статью, сделав упор на его графике (а не на лирике, как то принято до сих пор), под заглавием «Образ бессмертия»: позже она была напечатана одним из солидных московских издательств в виде предисловия к тому стихотворных переводов (не моих). Как-то раз, с месяц назад, я показал этот том Люку. Он уважительно улыбнулся и кивнул, сказав, что в его семье были последователи Сведенборга. «Впрочем, — заметил он тотчас, — латинос часто тянет к католицизму и всему такому..» Сам он был явный атеист, несмотря на пейсы. Все же я был рад, что он знает, чем связаны между собою Сведенборг и Блейк.
Как мог, я старался сохранить в доме уют. Мать больше лежала, лишь изредка к ней возвращались силы, всякий раз на день-два. От деда давно не было вестей. Теперь писала нам лишь моя тетка, мать Иры, ездившая в деревню, и письма оттуда всегда были печальны: дед терял память, за ним тоже требовался призор. Помню свои (слабые) попытки организовать свой рабочий стол, кабинет. В США мне это удалось без труда, отчасти с помощью Люка, но московская квартира словно не желала моей опеки над ней. Книги, отобранные в гостиной, расползались по кухне и спальне и даже оказывались порой в прихожей, где-нибудь у трюмо, вместо того чтобы сомкнуть ряды на плацдарме моей книжной полки. Моя детская белая мебель была отвратительна, как альбинос, — о, если бы в ней было хоть что-нибудь от Тони! — кровать выдерживала натиск моих страстей в руках неверных подруг, коим я без зазрения совести платил изменой (как и советует Донн), но на большее способна Не была и к тому же предательски скрипела. И я изображал бодрость всякий раз, произнося: «Мама, это Нина» (или Вера, или Надя — смотря по обстоятельствам), прежде чем, замкнувшись с ними, пуститься в короткое плавание на сей утлой шлюпке, — пока сам не дам течь. И после с особой грустью созерцал цветочки обоев, не менявшихся со смерти отца, размышляя над тем, что, собственно, мне так претит во всех женщинах этого мира, исключая одну, в которую я даже не влюблен. И чем дальше, тем больше я убеждался, что сама моя московская жизнь со всей ее пресной плотью есть лишь пустая заставка, нечто вроде той ширмы, или экрана, которым на сцене отгораживают скучный дивертисмент от невидимых зрителю важных приготовлений. Спектакль начнется вот-вот: глядите на арлекинов! В моем случае, однако, дивертисмент был плох, да еще и трагичен, а теперь к тому же мне надоел в антракте и сам спектакль.
Впрочем, именно той зиме я обязан и первой своей пробой пера (читатель держит в руках последнюю). Возможно, что изощренность джон-донновской прозы, ее виртуозный шарм, обилие тропов, обилие игр в них и игр с ними, определили мой стиль — независимо от его реальных достоинств. Мне нравилось сглаживать слог, пряча за ритмом излом приема, или, напротив, тянуть пассаж, заставляя глаза скользить по строчкам как по лыжне, если не знаешь, что в конце спуск и трамплин.
Я, кажется, даже тогда мечтал о каком-нибудь смелом, наконец-то бумажном романе (живых не хотел вовсе), о хорошо смазанном его механизме с самым современным чертежом, где уже ожившие и принятые на веру читателем герои вдруг обнаруживают авторский сарказм, уловку стиля, становясь то колодой карт(мистики, вроде Мейринка, предпочитают таро), то фигурками из коробки шахмат. Я, помню, был рад взглянуть под этим углом и на собственную историю с Тоней. Но нет — она не тянула на аллегорию! Милый Джон Донн! Мне просто не хватало лиц. Конечно, кое-кто у меня был. Например, белый король — мой дед. Или черный? И враждебный ему Платон Семеныч. И сам я был черный офицер, оседлавший белую кобылку — образ сладостный по ночам. Старуха была королевой. Но королевой была и Женщина в Белом, а это уже вносило путаницу в расстановку сил. Легче всех была судьба тур — родительских тяжеловесных башен, полуразрушенных с той и с другой стороны, сколько я мог судить. Но что делать с пешками, с этой оравой статистов, я решительно не знал. Отдать их всех в любовники Тоне? Или что-то оставить себе? Поделить пополам? Брюнетки направо, блондины налево? Вздор! Словом, детская повесть Ч*** казалась мне куда интересней и правдивей всех этих вымученных игр и я ограничился дневником. Не привожу его здесь: это уже дурной тон в наше время.