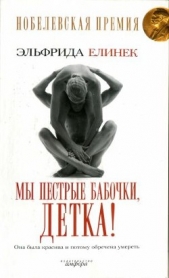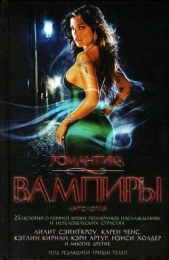Дети мертвых

Дети мертвых читать книгу онлайн
Смешавшись с группой отдыхающих австрийского пансионата, трое живых мертвецов пытаются вернуться в реальную жизнь. Новый роман нобелевского лауреата Эльфриды Елинек — выразительный аккомпанемент этой барочной аллегории — пляске смерти.
«Я присматриваю за мёртвыми, а всякий гладит и почёсывает мои милые, добрые слова, но мёртвые от этого более живыми не делаются…»
Эльфрида Елинек считает роман «Дети мертвых» своим главным произведением, ибо убеждена, что идеология фашизма, его авторитарное и духовное наследие живы в Австрии до сих пор, и она мастерски показывает это в книге. Роман был написан десять лет назад, но остается непревзойденным даже самой Эльфридой Елинек. По словам критика Ирис Радиш, «Елинек сочинила свою австрийскую эпопею. Это — наиболее радикальное творение писательницы по тематической гигантомании и по неистовости языковых разрушений».
Основная литературная ценность романа заключается не в сюжете, не в идее, а в стиле. Елинек рвет привычные связи смыслов, обрывки соединяет по-новому, и в процессе расщепления и синтеза выделяется некая ядерная энергия. Елинек овладела плазмой языка, она как ведьма варит волшебное варево, и равных ей в этом колдовстве в современной литературе нет.
Если Михаил Булгаков в «Мастере и Маргарите» напускает на Москву целую свору нечистой силы, чтобы расквитаться со своими недругами, то Эльфрида Елинек делает примерно то же при помощи мертвых, которые воскресают, переселяясь в чужие тела. Елинек творит в лице своих героев акт мести за поколение своих родителей. Она пишет от лица неотомщенных мертвых. Недаром название романа «Дети мертвых» разбито на два смысла: «Дети роман мертвых».
Татьяна Набатникова
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Лица лесорубов на мгновение устало поднялись к походникам-любителям, прежде чем поднять очередную. Жидкость плещется в бутылке, и волны неузнавания пробегают по телам, скоро их родные не узнают. Это загадка, зачем искать покой в походе, когда и так спи себе спокойно, мир праху твоему. Тем временем несколько миллионов мёртвых отчаянно рвутся из-под крышек, как пар. Они тоже хотят быть поперченными и посоленными и побаловать людей — как это было бы чудесно! Дайте срок! Мёртвые горнолазы, погребённые в неведомой стране щелей, ущелий и расщелин, обломки их жизни выглядывают через боковые стёкла на цветущую жизнь, которую для них образцово воплощает Эдгар Гштранц. Где отыщешь ещё одного такого? Скорее уж земля разверзнется, как тучи, когда их прорезает молния. Однажды пронестись по лугу в белый свет как в копеечку! Никто из походников не догадывается, что для Эдгара дело давно идёт к темноте, где в его сохранности покажется такое, чего он в жизни не видел. Но природа ещё упоительно цветёт, и упоённые, удобренные алкоголем, природным продуктом, цветы природы громыхают мимо на тяжёлых спаренных колёсах, топоры оставили заметные последствия на их шкуре, в их мясе, которое конечно и которое, конечно, снова заживёт, как два пальца обрубить. Один, напарник, коротко оглядывается, чтобь! пощипать взглядом этот альянс из натурального и искусственного волокна, Эдгара, потом поворот, и это краткое содержание спортсмена как корова языком слизнула, хотя спортсмен ещё здесь, ведь его содержанию здесь ещё не отмотался срок. Уж так оно с нашими дорогими покойниками. Только что это было обжитое местечко под солнцем, живой человек, можно было сказать — неотёсанный: оригинал, и вот остались одни стволы с обрубленными ветками, светло-серая щебёнка лесной дороги да красные потроха железа на разломах, вот выпадают зубы, вот ставятся мосты, но каким целям они будут служить? И кому служим мы? Для чего женщины в шезлонгах ждут своих любимых путешественников или сами уходят вместе с ними? Есть приборы, при помощи которых можно что-то оплатить прямо из дома, а есть домашние приборы, которые приходится оплачивать, чтобы они заключали наши тела, а потом выбрасывали ключ, и один такой прибор Эдгар Гштранц зажал под мышкой, чтобы потом встать на него. Он и его подставка составляют одно целое, поскольку она придаёт его сущности видимость. Эдгар будет на ней так скор, что всякий, кто его увидит, подумает, что это было лишь мимолётное виденье, лишь гений чистой красоты. Ролики вертятся, колёса стучат, красота на марше, еда на колёсах для далёкой сущности, которая уже снимает мерку с Эдгара. Он уже выложен на сервировочный столик и приготовлен для раскрошенных зубов покойников, если зубы не повыломаны. И теперь покойники сами выламываются из своих владений, где они владеют даже иностранными языками, но на их голых, иссохших рёбрах не подвешено никакой таблички, говорящей об этом хоть что-нибудь. Вот мы и считаем, что мёртвые не понимают нас, лишь потому, что сами их не понимаем. Существа показываются, а потом вылезают из собственной шкуры, они выходят на передний план, поскольку у них есть чутьё к пластике, из которой состоим мы, когда, игриво обвившись хула-хупами бензольных колец, показываемся на виду, и именно тогда мы быстрее всего исчезаем внутри наших телесных мер, которыми мёртвые нас зачерпнули. Они подобрали верный размер, только мы всё надеемся, что на нас налезет на размер меньше, потому что мы намерены похудеть, как убывающая луна: будь у нас выбор, что бы мы заказали? Нашу собственную фигуру, которая спорит с нами, что сегодня съесть и с кем после этого разделить себя, но лучше всего не делиться ни с кем. Даже если нас иногда тянет на любовь, любовь к нам никогда не тянет. Мы лишь эскизы мёртвых, и только когда мы мертвы, мы готовы, и тогда другие могут нас копировать. Они могут нас препарировать, могут сепарировать, но ничего не добьются, потому что сливки с себя мы уже сняли. Вести жизнь и машину — вот мелодия, которая обольщает сердце, опутывает его своими сетями, пока сердечная сумка, битком набитая, не лопнет. Это факт: так много осталось мёртвых, от которых не осталось даже фото. И семьи их развеяны по ветру. Кто теперь думает в возвышенном тоне о тех, кто ползает по краю облака, пока его в облике диска кто-нибудь не сунет в плеер, в этого вечного странника на поводке батарейки? Вот они и встают, и в последний момент ещё успевают набросить на себя плащаницу воздушной подушки, на которой узнают себя потом, когда вознесутся над другими. И иной раз кто-нибудь из нас оказывается внизу и оказывается в опасности (хотя опасное место держали для более достойного, чем он!), даже если успевает ещё скатиться на своей доске по склону, прямо в ель, единственное, исключительное дерево, которое его там поджидало. Мы обнимем эту ёлку или посадим себя на ёлочную цепь.
А теперь вниз, по горбатому альпийскому лугу, земля потягивается и выгибается уже нарочно. На пути Эдгара неожиданно возникает группа из трёх походников. Пожилые мужчины невольно напрягаются, через них проходит трещина, но они смыкают ряд. Их часы отмеряют не только время, но и умеряют удары их сердца, как будто кому-то есть дело до их жизни — всё уже заранее измерено, взвешено и сочтено. Внезапно долину перед ними скрывает тень. Как будто её захлестнула чёрная мысль. В продолжение мгновения из деревни выпадает её собственный проспект, на котором она подсовывает под нос нам, любителям достопримечательностей с дрожащими от перенапряжения мускулами, свои примечательные, обсаженные цветами образцовые строения, — выпадает чуть ли не из образа курортного местечка. Из окон выглядывают глаза: с чего это так внезапно стемнело? Уж не поздняя ли гроза? Не мог же в такой ранний час заблудиться вечер! Только луга ещё лежат в самоупоённой зелени, покроплённые то там, то сям брызжущим, как родник, существом в спортивной, но слегка подпалённой одежде для свободного времени, которое пытается выпутаться из банды, в которую он попал, из эластичной повязки ремней, цепляясь, царапая землю и ища, за что ухватиться на склоне луга.
Дедушки, спешащие домой, где их жёны в шезлонгах ждут, когда же снова смогут привязаться к ним, своим спутникам! Чтобы дёргать их, как козы свои колышки. И не надоест ведь им! Прелестно, как пенится вода там, под мостом. Альпы давят, как гнёт помешательства, на этих походников, которые теперь, к сожалению, должны окончательно разойтись с Эдгаром в его треплющихся на ветру просторных трикотажных брюках с напечатанными на них именами, которые не греют нас, — имена вопят в тоске по месту их рождения, по Америке, от груди которой их слишком рано отлучили. Имена наших мёртвых? Мы их не знаем. Да и не обязаны знать. Мы — американец. Так мы твёрже пойдём дальше — если к гостинице, то вниз, если к вершинам, то вверх. Уже размечена колышками земля, а Эдгар ещё слышит шаги коллег по гальке лесной дороги и скрип кожи их ботинок и шорканье штанин; уже размечена земля, возведена без здания пустая дверь, через которую можно вломиться, а можно и обойти вокруг, поскольку нет никакого дома. Страх, который сковывает до рукам и ногам. Хлёсткий звук хлыста. Уже что-то подступает ближе, и вдруг, совсем ненадолго, Эдгар затосковал, вспомнив про этих мужчин, очевидно прочно укоренённых в жизни, которых он только что повстречал, — ведь нить связи с ними ещё держалась, но этот горный рыцарь Эдгар, этот горец, был слишком горд, чтобы схватиться за неё. Так он послал тех трёх мужчин, даже не взглянув на адрес, написанный у них на бирках. Он знал адреса и получше, написанные на его брюках. Дорога, эта светлая змея, только что она казалась короткой, отрезок, на который предстояло взойти, вдруг вильнул под более острым углом, чем рассчитывал Эдгар. Временами казалось, что она, словно воронка в воде, отступает назад, как будто навстречу ей движется нечто, с чем придётся бороться. Приливное течение, водоворот, прибивающий к фьорду сломленное, скрюченное существо. Почему фаланги этой змеи такие окостенелые, будто она сейчас выползет из своей кожи и бросит свой снятый наряд Эдгару под ноги, потому что ей не подошёл цвет? Давно уж должен был открыться вид со штабелями стволов, приготовленных для вывоза, там, где сыновьям лесника и пришла в голову мысль застрелиться из стволов, наполненных водой, и где они и осуществили эту мысль, потому что никто, даже лесничество, не хотел их взять и потом, может, даже перевести их на чужой для них, письменный язык. Теперь у лесника больше нет детей, но ружьё у него всё ещё есть. Если мы здесь немного подождём, может подойдёт и он. Почему дорога здесь неожиданно пошла выше? — ведь Эдгар знает дорогу, даже во сне не заблудится. Как будто невидимая рука на этой горе Средних альпийских предгорий, не устояв перед блеском ослепительной панорамы Тормойера, быстренько устроила ещё одну вершину, рядом с Высоким Файчем. Кто-то, кого больше не устраивал альпийский сельский магазин с его убогим выбором, и он просто подсел на этот вид. Непрошено подсел. Он просто хочет предложить нам нечто большее, этот лихой прохожий, этот проходимец, это лихо!