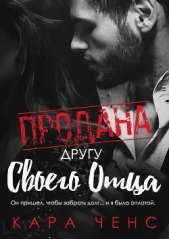Свидание с Бонапартом

Свидание с Бонапартом читать книгу онлайн
В основе романа события Отечественной войны 1812 года. Романтические судьбы героев тесно переплетены с истинной историей нашествия, а потом изгнания из России наполеоновских войск.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
В один прекрасный день я внезапно понял, что вовсе не исцелен, какого черта! Все мои надежды на исцеление – самообман, а испытание, посланное мне, только и начинается. И действительно, служба опять потускнела, а обрез губинской царицы, напротив, вспыхнул во мне с прежней силой. Бог дал мне временную передышку, чтобы не добить окончательно. Зачем я ему, безумный и слепой? Кому мы нужны вообще, лишенные способности остро чувствовать, равнодушные, раздавленные? Кому мы нужны, не умеющие кричать от боли, плакать от горя, стонать в унижении? Мы и себе не нужны, а уж другим и подавно. Разумеется, я и виду не подавал, что во мне вновь что-то рушится и горит, что мундир меня обременяет, что крики наказываемых лозой солдат оскорбляют мой слух.
«Лозончиками не увлекайтесь», – говорил я своим офицерам как бы между прочим, зная наперед, что это мало поможет. Командиры отдавали приказ всыпать лозончиков, делая вид, что не сомневаются в пользе этой меры, солдаты натягивали штаны, делая вид, что поделом осчастливлены, Тимоша бил по щекам старосту, потому что староста велел высечь мужика, господин Мендер грозил кулаком покоренным италианцам, представляя, что это и есть высшая историческая справедливость. Бог рискнул дать нам толику воли, и мы тотчас ею воспользовались, чтобы топить друг друга, унижать, и мы так распоясались, что пришлось время от времени насылать на нас чуму, мор и прочие мировые катастрофы, чтобы мы опомнились, ибо лишь перед лицом общих бедствий, как выяснилось, мы способны объединяться. Как грустно… И тут я набрался решимости и написал Варваре второе письмо.
«Милостивая государыня Варвара Степановна!
Тешу себя надеждой, что Вы не незахотел» на письмо мое ответить, а не смогли. Расставшись с Вами и приложив все усилия, чтобы вычеркнуть вас из своей жизни, я тем не менее бессилен позабыть Ваш январский возглас, которым вы однажды встречали в Губине меня: «Нашелся мой генерал!» Ведь не только из детской восторженности родился он? Наверное, за ним что-то все-таки скрывалось, столь он был сердечен. Не претендуя ни на что, а тем более на Ваше расположение, я знать хочу: ежели это не озорство, так что же это такое? Не может быть, чтоб я для Вас совсем ничего не значил. Я бы охотно в это поверил, когда бы не столь частые признаки Вашей ко мне приязни, в чем обмануться невозможно. Как видите, я с легкостью пренебрегаю своим возрастом и проклятым генеральством, откровенно рисуя Вам свою слабость, и даже рад этому и не сомневаюсь, что Вам будет приятно лишний раз убедиться в моем к Вам абсолютном доверии.
Только одно письмо, несколько строк, написанных Вашею рукою, с любым разъяснением!
Остаюсь в терпеливом ожидании
Ваш покорный слуга
Николай Опочинин».
Я знал, что ответа не будет, и все же возбужденное воображение рисовало мне в часы бессонницы прелестные фантазии из нашей с Варварой грядущей счастливой жизни. Это были нагромождения каких-то смешанных пейзажей, липеньских и губинских, долгих совместных поездок куда-то, зачем-то, прогулок вдоль Протвы, чаепитий, объятий, многозначительного молчания, и при этом никаких горестей, а тем паче предчувствий скорых катастроф, зачанской льдины, нынешнего нашествия и прочего, прочего…
Я знал, что ответа не будет, но он пришел и поверг меня в трепет.
«Мой дорогой генерал!
Видимо, я ошиблась, полагая, что моя откровенность не сможет причинить Вам боль. Не рассчитала. Я испытываю к Вам более чем приязнь, как Вы скромно заметили, и я могла бы, не раскрываясь перед Вами, ответить на Ваши чувства согласием, как это и случается сплошь да рядом в нашем мире. Вообразите, мы жили бы с Вами, наверное, не хуже многих, и Вы, может быть, так никогда и не узнали бы, что я кого-то там люблю, кто даже и не догадывается об том – подумать только, какой вздор! – и кто неоднократно выражал мне свое презрение… Но, мой генерал, не в моих правилах держать камень за пазухой, а особенно если это касается Вас. Вот я рассказала Вам все, надеясь, что это нам помешать не должно, что мы просто забудем об нем, тем более что никаких реальных сигналов «оттуда» последовать и не может. Потом я поняла, что поступила жестоко, не нашла нужных слов, мучилась. Вы мне стали еще дороже, когда отвергли всякий несусветный вздор, всякие там союзы, которыми я старалась покорить Вас. Сначала у меня была надежда, что, выслушав весь этот бред, Вы махнете рукой и скажете, что Вас это не касается. Но я ошиблась. Вы прекрасно знали, что он (тот) никогда меня не позовет, что он больше в моем воображении, мираж, недолгая болезнь. Вы это понимали, я видела, но дело было сделано. Язык мой – враг мой, но совесть моя чиста…
Ваша Варвара Волкова
P.S. Первое письмо Ваше было слишком шутливым, чтобы походить на правду».
…Вот и дождались! Мои люди видели французский разъезд – офицер и два кирасира. Они выехали из лесочка по проселку, ведущему в Хващевку, помаячили на опушке и воротились в лес. Дорога на Липеньки открыта, господа, и там вас ждет обезумевший и коварный инвалид с дрожащими руками, наполовину распрощавшийся с миром, готовый одинаково и взлететь вместе с вами в августовское небо, и молча ускользнуть, исчезнуть, спастись, выжить, не дать себя обмануть минутным эмоциям и лишить вас райского блаженства здесь, на задворках вашей Европы. Вы думаете, это легко, обмякнув вдруг, упасть на пороховую бочку с огнем в руке и все оставить в прошлом, отвергнуть вдруг все, что есть моя жизнь?… Они там потом припишут себе честь этого счастливого таинственного избавления России от французской чумы, соберут новые полки и пойдут в обратном направлении по чужим огородам! Чего же я добьюсь?… Но отечество истекает кровью, и думать должно нам, еще живым, как уберечь его своей любовью и что ответить недругам своим… Пью настойку проклятого корня уже по нескольку раз в день – слабое снадобье. Господин Мендер клялся, что бог избрал его средь многих, но я-то ведь еще не обезумел… Неужто и меня всевышний разглядел в липеньской глуши и отличил? Так отчего же он не закалил мою душу и не избавил меня от лукавства, от сомнений, от страха?…
Продолжаю о Варваре.
Это была большая радость – ее письмо. Я перечитывал его много раз и знал наизусть. Сгорал заживо, истомился, садился за ответ, но ликование проливалось на бумагу бессвязно, невразумительно; отправил какую-то тарабарщину, но снова ответа не было. Затем собрался прорваться в Губино сквозь снега, но судьба снарядила меня в Петербург по армейским делам, а воротился, опять ничего, кроме нескольких писем от Сонечки, из которых я узнал, что Варвара Волкова уже несколько месяцев как живет в Москве в доме своего нового супруга, безвестного какого-то сочинителя или актера, небогатого, даже, скорее, бедного, немолодого, даже лысого, черт бы его побрал! В утешение Сонечка писала как бы между прочим, что рассказывают, будто во время венчания он походил на заморенную лошадь, а она кусала губы и была бледна. Вот я и утешился! Быть может, иная дама, вздыхающая по мне, пожала бы плечами, проведав о моей страсти: мол, не сошел ли он с ума, пылая к этой невыразительной самовлюбленной ненатуральной барыньке, у которой и есть что выпученные глаза? Да в этом ли истинное достоинство дамы, супруги, спутницы навек?… Не любите сумасбродок, даже если взгляд их кроток. Разве мало в наши дни тех, что ангелам сродни? Отчего ж они в тени?… Вы правы, милые дамы, но велеречивость меня отвращает, торжественные заклинания и трагические жесты оставляют меня холодным. Мы все послушные ученики природы, даже, скорее, ее безгласные холопы. Она повелевает, и мы разбиваем головы, мы все, и вы, милые дамы. Когда же мы наконец добиваемся того, чего желаем, мы убеждаемся, что это далеко не то, чего мы желали. Будем откровенны. Я был откровенен перед самим собой, клянусь, и я понимал, что моя песня спета, но душа моя была запродана, а тут уже бессильно все.