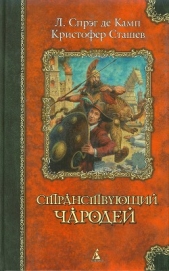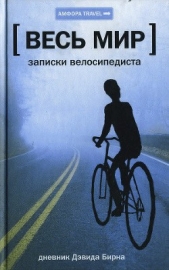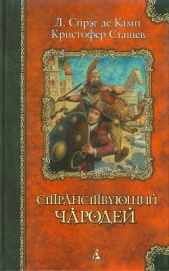Меж сбитых простыней

Меж сбитых простыней читать книгу онлайн
Иэн Макьюэн — один из «правящею триумвирата» современной британской прозы (наряду с Джулианом Барнсом и Мартином Эмисом), лауреат Букеровской премии за роман «Амстердам».
В своих ранних рассказах (а больше Макьюэн к короткой форме не возвращался, сосредоточившись на романах) автор демонстрирует широкий спектр стилистических экспериментов. «Это была для меня своего рода лаборатория, — говорил он в интервью, — способ опробовать различные регистры, найти себя как писателя». Умело балансируя на грани между возвышенным и макабрическим, он демонстрирует нам постапокалиптический Лондон и любимую обезьяну популярной писательницы, бизнесмена, воспылавшего страстью к портновскому манекену, и отца, ревнующего дочь-подростка к ее подруге-карлице…
Впервые на русском.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Психополис
В Венисе Мэри на паях владела магазином феминистской литературы. Мы познакомились за ланчем на второй день моего пребывания в Лос — Анджелесе. В тот же вечер мы стали любовниками, а вскоре и друзьями. В ближайшую пятницу я за ногу приковал ее к своей кровати на весь уик-энд. Как она объяснила, ей «было нужно пройти через это, дабы обрести свободу». Перед тем (в столпотворении бара) она вырвала у меня торжественное обещание не слушать ее требований об освобождении. Стремясь ублажить свою новую подругу, я купил изящную цепь с замочком. Медными шурупами я прикрепил стальное кольцо к ножке кровати, и все было готово. Через какое-то время от Мэри поступила настоятельная просьба о свободе, но я, хоть и в некотором смятении, вылез из кровати, принял душ, оделся и, облачившись в домашние тапочки, принес ей большую сковороду, в кою она могла бы справлять малую нужду. Подруга взяла твердый рассудительный тон.
— Сейчас же отомкни, — сказала она. — Будет с меня.
Признаюсь, она меня испугала. Плеснув себе выпить, я удрал на балкон полюбоваться закатом. Все это ничуть не возбуждало. Если расковать, говорил я себе, она станет меня презирать за то, что я дал слабину. Если не расковать, она меня возненавидит, но я хотя бы сдержу обещание. Бледно-оранжевое солнце нырнуло в дымку, а я слушал крики, доносившиеся сквозь закрытую дверь спальни. Зажмурившись, я сосредоточенно убеждал себя в своей невиновности.
Один мой приятель проходил курс психоанализа у престарелого фрейдиста, имевшего солидную практику в Нью-Йорке. Улучив момент, он все же высказал сомнение касательно теорий Фрейда в том плане, что они лишены научной достоверности, весьма специфичны и так далее. Выслушав его, психоаналитик добродушно ухмыльнулся и молвил: «Оглядитесь!» Раскрытой ладошкой он обвел уютный, заставленный книгами кабинет с каучуконосом и бегонией, а затем в знак чистосердечия изящно прижал ее к груди, заодно демонстрируя стильные лацканы пиджака. «Неужели вы думаете, я бы достиг того, что имею, если б Фрейд был не прав?»
Вот так и я убеждал себя, возвращаясь с балкона (солнце село, спальня затихла): я верен обещанию, и в этом вся правда.
И все же я заскучал. Я слонялся из комнаты в комнату и, привалившись к дверным косякам, разглядывал знакомые предметы. Потом установил пюпитр и достал флейту. Играть я учился очень давно и делаю массу закрепленных привычкой ошибок, исправлять которые уже нет желания. Клапаны полагается прижимать лишь кончиками пальцев, мои же руки соскальзывают с клавиатуры, что делает невозможным плавное исполнение быстрых пассажей. Мало того, во время игры моя правая кисть зажата и расположена под неверным углом к инструменту. Я не «держу спину», но горблюсь над нотами. Диафрагма моя не работает, я небрежно выдуваю горлом. Мундштук плохо подогнан, я слишком часто прибегаю к слащавым вибрато. Из всех звуковых нюансов мне подвластны лишь «тихо» и «громко». Я так и не удосужился выучить ноты после верхней соль. Я немузыкален, и слегка видоизмененные ритмы сбивают меня с толку. Помимо всего прочего, у меня нет охоты расширить репертуар, и я делаю одни и те же ошибки все в той же полудюжине пьес.
Приступив к исполнению первой вещицы, я подумал о том, что мои экзерсисы слышны в спальне, и на ум пришло выражение «плененная публика». [11] Перебирая клапаны, я прикидывал, как ненароком ввернуть сей каламбур в беспечную фразу, юмор которой разрядит ситуацию. Я отложил флейту и подошел к двери спальни. Но прежде чем фраза сложилась, рука машинально толкнула дверь, и я оказался перед Мэри. Она сидела на краю постели и расчесывалась, благопристойно прикрыв цепь одеялом. В Англии столь четкую в желаниях даму сочли бы агрессивной, однако невысокая и весьма кряжистая Мэри отличалась мягкостью манер. Ее лицо производило впечатление смеси красного и черного: пунцовые губы, черные-черные глаза, темно-румяные щеки и черные волосы, лоснящиеся, как смола. Ее бабка была индианка.
— Чего тебе? — рявкнула она, не прекращая расчесываться.
— А, плененная публика! — сказал я.
— Что?
Я промолчал, и Мэри потребовала оставить ее в покое. Присев на кровать, я решил: если попросит, я тотчас ее освобожу. Но Мэри ничего не сказала. Закончив с волосами, она улеглась навзничь и сцепила руки на затылке. Я смотрел на нее и ждал. Спрашивать, не желает ли она получить свободу, казалось нелепым, а просто расковать ее, не испросив позволения, было страшновато. Я так и не понял, каковы ее мотивы — идеологические или психосексуальные. А потому я вернулся к музицированию, только унес пюпитр в дальний конец квартиры и притворил двери в смежные комнаты. Я надеялся, что теперь меня не слышно.
В воскресенье вечером, после суток нерушимого молчания, я выпустил Мэри на свободу. Когда оковы пали, я сказал:
— Еще нет и недели, как я в Лос-Анджелесе, но уже чувствую себя совсем другим человеком.
Моя лишь отчасти правдивая реплика замышлялась как комплимент. Придерживаясь за мое плечо, Мэри растирала щиколотку.
— Немудрено, — ответила она, — Это последний из городов.
— Шестьдесят миль в ширину! — поддержал я.
— Тысячу миль в глубину! — заорала Мэри, обвив мою шею смуглыми руками.
Похоже, она обрела то, что искала.
Но к объяснениям была не расположена. Мы вышли перекусить в мексиканском ресторане, и я, не дождавшись рассказа об уик-энде в оковах, стал ее расспрашивать, но она меня перебила:
— Правда ли, что в Англии полный упадок?
Я ответил утвердительно и разразился пространной речью, хотя сам не верил в то, что говорю. Единственным имевшимся подтверждением полного упадка было самоубийство приятеля. Вначале он хотел лишь наказать себя и съел немного толченого стекла, запив его грейпфрутовым соком. Когда же начались боли, он побежал в метро и, купив самый дешевый билет, бросился под поезд. На только что открывшейся линии «Виктория». Как это расценить в национальных масштабах? Из ресторана мы шли под руку и молчали. Воздух был жаркий и влажный; на тротуаре, где стояла машина Мэри, мы поцеловались, прильнув друг к другу.
— В следующую пятницу повторим? — криво ухмыльнулся я, когда подруга забралась на сиденье, но мои слова заглушила хлопнувшая дверца.
Через окно Мэри помахала пальчиками и улыбнулась. Потом я долго ее не видел.
В Санта-Монике я проживал в большой съемной квартире над прокатной конторой, предоставлявшей в аренду утварь для вечеринок и, как ни странно, оборудование для «больничных палат». Одна часть лавки была отведена под винные бокалы, шейкеры, раскладные кресла, банкетный стол и портативную дискотеку, а другая под инвалидные коляски, функциональные кровати, пинцеты и судна, сверкающие стальные трубки и цветастые резиновые шланги. За время своего постоя я видел, как эти причиндалы тащили по городу. С иголочки одетый управляющий поначалу пугал своим дружелюбием. При нашей первой встрече он сообщил, что ему «всего двадцать девять». Этакий малый-кряж, он носил густые вислые усы, какие поголовно отпускала амбициозная молодежь Америки и Англии. В первый же день он нанес мне визит и, представившись как Джордж Малоун, отвесил комплимент:
— Англичане делают чертовски хорошие инвалидные коляски. Лучше не бывает.
— Наверное, от «роллс-ройса», — сказал я. Малоун схватил меня за рукав.
— Издеваетесь? «Роллс-ройс» производит…
— Нет-нет, — занервничал я, — Это шутка… На мгновенье его лицо окаменело, и лишь рот разверзся в черную дыру. Сейчас он мне врежет, подумал я. Но Малоун расхохотался:
— «Роллс-ройс»! Отпад!
Когда мы свиделись в следующий раз, он ткнул пальцем в сторону больничного отдела лавки и заорал:
— Ну что, возьмете «ролле»?
Потом мы случайно встретились в полутемном баре за Колорадо-авеню, и Джордж представил меня бармену как «отменного хохмача».
— Что будете? — спросил бармен.
— Топленый жир с вишенкой. — Я всей душой стремился оправдать свою репутацию.