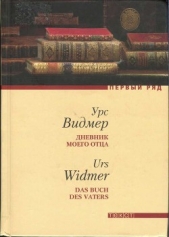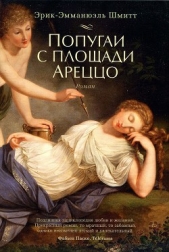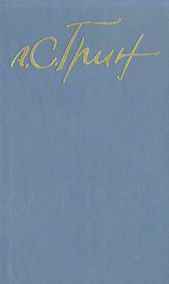Секта эгоистов

Секта эгоистов читать книгу онлайн
«Секта эгоистов» — первый опыт Шмитта в области крупной повествовательной прозы. «Роман, который скрывается по мере того, как в него вчитываешься, — писал о „Секте эгоистов“ Рене Матиньон. — Роман, который рассказывает, как его не было, ускользает и обманывает, творит себя из этого обмана. Книга посвящена книге, которой не существует в мире, где только книги и существуют…»
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Бургиньону случилось, не желая того, поторопить судьбу.
Однажды, когда Гаспар на ощупь спускался по лестнице, желая погреться под солнышком на скамейке в парке, он услыхал голоса, доносившиеся из чулана.
Говорила женщина:
— Да оставь же меня, не тискай! Ты слишком пьян, и вдобавок нас могут застать. Отпусти, говорю!
— А вот не хочу я тебя отпускать, — отвечал хорошо знакомый Гаспару голос.
— Пусти юбку, Бургиньон, мне сейчас неохота, да и тебя вот-вот хозяин позовет!
— Ну и пусть зовет, велика важность! Наплевать. Он по-любому настолько чокнутый, — сам что-нибудь придумает, чтобы объяснить, почему меня нет!
— А его объяснение случайно не окажется верным?… — смеясь, заметила женщина, которая, судя по участившемуся дыханию и тихим вскрикам, уже готова была уступить.
— Еще чего, конечно нет! Я-то в реальность верю, особенно когда реальность такая пухленькая, как ты! Признавайся, плутовка, ты зачем платье с таким вырезом надела? Знаешь ведь, что мне против него ни за что не устоять!
— Вот затем-то, может, и надела!..
После чего раздались звуки, которых Гаспар слушать уже не стал. Так, значит, Бургиньон тоже предавал его? Положение прояснялось: несмотря на первые санкции, Творение бунтовало против своего Творца. С кружащейся головой и тяжелым сердцем он медленно поднялся обратно и заперся в своей комнате.
Следовало положить конец этому мятежу.
Гаспар был очень спокоен. Решение задачи пришло само; оно тихонько ожидало подходящего момента, чтобы появиться, подобно радуге после грозы.
Ввергнуть мир во мрак оказалось недостаточно. Его следовало полностью уничтожить.
Гаспар решился: нынче вечером он принесет мир в жертву!
И наконец останется один…
Один, со своим «я», без унизительной необходимости огибать предметы, без пространства, без людей, без всей этой объективной и невыносимой мерзости. Один, наедине с самим собою, в бесконечном покое, именуемом вечностью…
Гаспар стиснул в ладони флакон с опиумом. Поистине люди смешны и нелепы! Так трястись за свою жалкую жизнь — и при этом не испытывать страха передо мною! Между тем с помощью этого пузырька я могу заставить их всех исчезнуть навсегда. Я держу такую власть в одной руке. Небытие! Разрушение! Окончательное решение! Апокалипсис таится на дне этой склянки! Я заставлю их всех умереть!
Умереть?
Гаспар улыбнулся.
Да, умереть. То, что я сейчас сделаю, у людей называется «умереть».
Он весело рассмеялся.
Вот именно, умереть! Покончить с собой! Применительно ко мне это выражение звучит забавно. Как будто Бог может уничтожить самого себя!
Теперь в его смехе звучала горечь.
Покончить с собой?
Это ведь не я умру, глупцы, умрете вы! Вы все! Я не себя убираю из вселенной, я вселенную убираю от себя!
Гаспар улегся на кровать, устроился поудобнее и вздохнул с облегчением.
Прощайте, звезды, нечистое дыхание, лукавые речи, мебель с острыми углами, лестничные ступеньки, судороги в икрах, своенравные женщины и бешеные собаки! Прощай, пространство! Мне больше не придется блуждать среди предметов, я избегу расстояний, дверей, которые отворяют или запирают, дорог, по которым бредут, рук, которые протягивают. Я избавлюсь от ночи с ее изнуряющим отдыхом, от этих принудительных часов, когда я укладываю измученное тело на постель, мечтая отпилить себе ноги, отнять ступни, перебить хребет, когда, будучи не в силах покинуть свое тело, я пытаюсь утопить его в глубоком сне. Отдых, ненавистный отдых, дань утомлению от жизни…
Как могла прийти ко мне эта глупая идея — воплотиться! Так нелепо обременить себя! Ради нескольких всплесков преходящего наслаждения я подвергал себя голоду, зною, жажде, боли, холоду, уколам, ожогам, всей этой человеческой жизни, этим телесным мучениям…
О чем же мог бы я сожалеть? О вечернем аромате цветов в садовой беседке? О лиловом небе в час заката? О женских бедрах, о сочном мандарине, о кошачьих глазах с золотой искрой?.. Лишь некоторые составные части вселенной прекрасны; в целом же она нестерпимо скучна.
И обходиться без времени, которое то стоит на месте, то идет и которое, проходя, бьет меня, причиняет боль, совершает надо мною насилие. Время принадлежит предметам; уничтожая предметы, я уничтожу время.
Избавиться от всех моих ограничений. Покончено с пространством, покончено со временем! Покончено с телом! Один… беспредельный… безотносительный… абсолютный, наконец… И жизнь — ровная, вечная…
Ничто.
Ничто, кроме меня.
А я вовсе не ничто.
Нет, нет, я не ничто.
Гаспар резко поднялся с постели.
А если?…
Нет, нет, это слишком глупо…
А если все-таки…
Эта мысль упрямо и колюче угнездилась в нем.
А если и он исчезнет вместе с миром?
Гаспар принужденно рассмеялся; смех прозвучал слишком громко. Тогда он отчетливо, чеканя слова, произнес: «Творец не умирает вместе со своим Творением, он над ним, вне его, он трансцендентен».
Холодная капля скатилась ему за ворот.
Трансцендентен! Ведь я-то существую вне того, что ощущаю, или того, что творю. Я — это я, цельный, объемный; я — это нечто.
Дрожь пробежала по его спине.
Взор, который ничего не видит, остается ли по-прежнему взором? Ничего не сознавать или сознавать ничто — значит ли это все-таки сознавать? Или же сознание ничего перестает быть вообще каким-либо сознанием?
Горячка. Озноб.
Да нет же! Я останусь собою, сознанием самого себя. И я буду говорить с собою!
Говорить?
Но говорить тоже станет невозможно. Слова, вместе со звуками, будут упразднены с исчезновением мира. Настанет безмолвие.
Гаспар поднес руку к сердцу, которое колотилось слишком часто, словно во власти руки было замедлить его биение. Безмолвие… А ведь он привык к слову, к языку, к этой французской речи, беглой и четкой, как дробь воробьиных лапок по водосточному желобу.
Нет, он не должен ни о чем сожалеть. Сама речь есть извращение. Людское безумие настолько спутало мне мысли, что я сам стал говорить с собой, как с кем-то другим. Говорить с самим собою! Словно с чужим! Как будто я нуждался в словесных оборотах и фразах, чтобы понять самого себя…
Гаспар вздохнул и вновь прилег на постель, пытаясь расслабиться. Больше никаких слов, никаких историй… Долгое снежное безмолвие…
А что если вечность скучна?
Полноте! Скучно бывает только во времени. Вне времени я буду спасен, я буду упиваться негой бытия. Без тела, без всех прочих, без слов. Я буду вечен. Чистый дух. Прозрачнейшая чистота как таковая.
Гаспар сделал первый глоток.
Я буду совсем как ничто, но я буду всем. Пространство для меня темница, время — скорбь, я больше не желаю их, я освобождаюсь от них. Я свободен. Я — необходимость.
Он вздрогнул. А если у него останутся воспоминания? Если убийство мира не помешает видеть его во снах, точнее сказать, в кошмарах? Оказаться пленником собственной памяти на целую вечность…
Чтобы успокоиться, Гаспар допил содержимое флакона.
Право же, такое невозможно. Я убью ощутимый мир, это значит, что я убью все образы, все звуки, все запахи, все лица. Не останется больше ни единого. А видеть сны — значит все еще быть погруженным в ощутимое. В вечности не будет снов.
Он слизнул последние капли с горлышка флакона и растянулся на постели во весь рост.
Подушка показалась ему жестковатой, он попытался устроиться поудобнее и постепенно перестал о чем-либо думать.
Через несколько минут Бог почил своим последним сном, унося в небытие мир, который ему никогда не следовало оттуда извлекать.
Кажется, рассвело. Слабый свет лег на мой письменный стол. Часы пробили пять, — пять ударов, гробовых, одиноких. Мир еще представлял собою цельную глыбу безмолвия.
Я сварил себе кофе. Изнеможение, которое следует за актом творчества, навалилось мне на плечи; я был слишком утомлен, чтобы писать дальше, и слишком возбужден, чтобы вообще ничего не делать. Я принялся переписывать свой текст фиолетовыми чернилами.