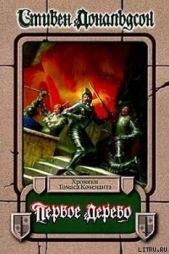Зверь дышит

Зверь дышит читать книгу онлайн
Николай Байтов — один из немногих современных писателей, знающих секрет полновесного слова. Слова труднолюбивого (говоря по-байтовски). Образы, которые он лепит посредством таких слов, фантасмагоричны и в то же время — соразмерны человеку. Поэтому проза Байтова будоражит и увлекает. «Зверь дышит» — третья книга Николая Байтова в серии «Уроки русского».
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Я как автор беру на себя… — Что? — Не всё, однако же бо́льшую часть. Можно сказать, почти всё. —
Белых глаз понеслась колесница. И горгоновы змеи волос шевельнулись над бурей колёс. И, как сабли, взлетели ресницы.
Все слова мне известны, но я научился следовать за ними не туда, куда они пытаются меня увести. И всё же, в существенном смысле за ними.
На самом деле они ничего не пытаются. Они бесхитростны. Даже не приглашают за собой. Просто поют. И моя хитрость — избыточная реакция. Из пушки, как говорится, по воробьям. Впрочем, «поют» — о воробьях сильновато сказано. Чирикают. Но так я сказал, и теперь уж — «еже писах, писах». В процессе философствования рано или поздно наступает момент, когда уже хочется издать лишь некий нечленораздельный звук. — Вот так раз! Звук? Ну, пусть, нечленораздельный, но ведь конкретный же! — Так какой же именно?
Так вот я и говорю: моя избыточная хитрость… Так вот… И что? — Ступор. Забыл, что хотел дальше. В недоумении. Ни в зуб ногой, ни в бровь, ни в глаз — размахнулся и где-то повис, даже никто не видит меня.
Скорее проявляя вкус к собирательству баснословных сведений, нежели заботясь об их критической проверке. Каждый человек имеет право знать истину. А вместо этого речевые обороты, ошеломляющие читателя и прячущие дискурс за рядом эмблематических фигур. Поскольку автор не может рассчитывать на то, что кто-либо сумеет перевести в видимый спектр его ультрафиолетовые аллюзии, постольку читатель оставляется свободным от всякой ответственности и может приступить к тому, чтобы вкушать поверхностные удовольствия, предлагаемые текстом, и удовлетвориться фрагментами, поддающимися пониманию в силу его личной конгениальности…
Его лицо, косматое и злое, имело вид брезгливый и усталый. Он оборвал меня на полуслове и всё сначала повторить заставил.
Нет, не так. — Почти всегда я пишу тебе, будучи почти пьян. И только. И точка. Точка ли? Не знаю. Я хотел продолжить, но забыл мысль… А, вот что: я изощряюсь, доводя письмо до формального совершенства. Если я не буду изощряться, опьянение, я знаю, понесёт меня в низины стиля. Так уже бывало не раз, и я теперь не даю себе расслабиться.
«И всякое слово, как бы кто его ни сказывал, приемлется не так, как сказано, а как могут и хотят принять его». —
Бесполезно говорить, потому что всё будет понято превратно. Твой собеседник не настроен на восприятие прямого смысла слов. Он всегда старается выловить какую-то подоплёку, скрытый смысл — чтобы намотать себе на ус в отношение тебя… И постепенно в нём выстраивается картина, которая, если б ты её увидел…
«Всё это неправильно, не так всё было. Маркиз был знаком с Дашкой с самого начала. Они не были любовниками, но собирались ими стать. Дашка мне говорила. А тут Серж этот нарисовался…»
Так рассказывала Тато́, вертясь в супрематических колготках перед плитой на кухне. Кроме того, на ней был надет венецианский фартучек — не забрызгаться оливковым маслом, на котором она поджаривала рыбу нам на ужин.
«Но Серж её не очень-то устраивал. Она и повела его как-то раз к маркизу в гости под Новый год. Устроила amour à trois. Начала с Сержем, а маркиз воспылал и присоединился. Серж тогда не возражал, потому что он думал, что он главный…»
— А потом?
— Ну, она очень увлеклась маркизом. Дашка ведь блядь почти такая, как я, — Таня обернулась от плиты и захохотала. — А у мужиков начались истерики, стали каждый на себя одеяло тянуть. Особенно маркиз — он очень ревнивым оказался и мужланистым. Серж-то помягче. Дашка не хотела Сержа бросать, маркиз её даже бил, она говорила. Сотрясение мозга перенесла. Вот так всё это и тянулось лет пять…
— А у тебя с Дарьей какие отношения?
— Ой, дружочек, очень нежные. Но тебе не следует допытываться до подробностей — всё равно не узнаешь.
Происходит немало событий.
Никаких событий не происходит.
Ты хочешь сказать, что это мертвец? И он лишь изображает ряд конвульсивных, гальванических движений?
Лишь то есть событие, в чём содержится загадка.
В гальванических судорогах загадки нет.
А случайные происшествия? Они — не события?
В них тоже загадка: мы не знаем их причины и потому считаем их случайными.
Да, но мы не считаем их загадочными. Загадки в них нет для нас. Вместо загадки мы подставляем объяснение: случайность.
Лишь бы она обессилела с этим мёртвым.
Что?
Я говорю: обессилела бы она с этим мертвецом поскорее.
Событие — это то, что провоцирует мысль. В этом плане событие агрессивно. Загадка в нём — для того, чтобы наехать на тебя и попытаться свести с ума.
Разгадка — спасение от сумасшествия: ты уходишь от агрессии события, когда квалифицируешь его.
Настоящие происшествия — только те, которые грозят сумасшествием?
— Ну, неправда, — усомнился Миша. — Мне претит вечно занимать фиксированную позицию скептика, но всё-таки обрати внимание, что ты торчишь в своём «художественном» мире, а с точки зрения физики, например, каждое взаимодействие элементарных частиц является событием в космосе, во времени. То есть космическое время, по сути, и складывается из этих событий. Они суть его ткань. Частицы выполняют программу по развёртыванию мира, и им дела нет до нашего сумасшествия или здравого ума. Им наплевать, представляют ли они для нас загадку или уже эта загадка разгадана… А много или мало событий происходит — это субъективная оценка наблюдателя. На самом деле их происходит ровно столько, сколько нужно для того, чтобы время не прерывалось.
— Так, значит, всё-таки космос — мертвец?
— Не знаю. Это тоже взгляд наблюдателя, причём замороченного символическим шаблоном.
Гога — уже умерший — стриг мне ногти на ногах. Это было в какой-то бане, что ли. Причём, у меня были на ногах ещё некие чешуйчатые наросты, которые он тоже состригал, и текла кровь. Много крови, целая лужа вокруг, но боли не было, только неприятное ощущение от соскребания ороговевших кусков кожи. Кровь струилась ручьями по ногам и капала на пол. Я был голый и кричал от ужаса, задирая ноги вверх. Но потом Гога включил какой-то душ, и сразу вся кровь смылась без следа — ноги стали чистыми и гладкими. Там ещё стояли и на всё это смотрели почему-то женщины — Таня с Нолой и какая-то третья. Знакомая, но кто — не могу вспомнить. Они смотрели, но ничего не говорили, и непонятно, что думали или чувствовали. Я их очень стеснялся. И наконец проснулся.
Вот тогда-то я впервые увидел ту женщину, которая стала впоследствии знаменитой Иоанной Конь. — Маленькая, как девчонка, с белобрысыми жиденькими космами (это потом она стала носить чёрные парики), в пыльной майке и джинсах, перепачканных мелом, она вышла следом за мной на солнце из боковой двери дворца и окликнула меня: «Эй…» Я обернулся. Наверное, она слезла с внутренних лесов. Прежде — среди работающих в громадном, почти пустом параллелепипеде — я её не заметил. Она стояла передо мной, и в руках у неё были кое-как собранные листки с моими стихами, которыми я застелил кирпичи, когда сидел, да там и оставил.
— Вам это не нужно? — спросила она развязно-насмешливо. — Нет? Тогда я возьму себе.
— Да ради бога… — Я пожал плечами. Мало ли каких причудливых художниц ни попадалось мне на веку. Если вникать во все их причуды — это я уже знаю, — то собьёшься с самого себя и потонешь в мелком хаосе. Так думал я, совершенно не чувствуя и не предвидя того, что на этот раз происходит.
Потом она создавала о себе легенды. Чаще всего она рассказывала, как была учительницей в школе. Причём в незапамятные времена. То она преподавала музыку (фортепьяно), то географию, то физику. Одновременно с этим она ездила в фольклорную экспедицию в Сибирь, где записывала частушки, пытаясь обнаружить в них следы посещений инопланетян. И якобы защитила на этом диссертацию. Но она никогда никому не сообщала, что на самом деле она была художницей, причём, как я подозреваю, заурядной и неудачной. Я свидетельствую об этом определённо, потому что встретил её именно в этой ипостаси. И почему-то я думаю, что с этого момента (когда она подобрала мои листки) для неё всё и началось: она стремительно прославилась на поприще поэзии и мифомании (да, Миша, я не оговорился: не нимфомании, а именно мифомании).