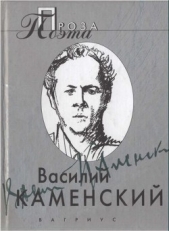Видоискательница

Видоискательница читать книгу онлайн
Новая книга Софьи Купряшиной «Видоискательница» выходит после длительного перерыва: за последние шесть лет не было ни одной публикации этого важнейшего для современной словесности автора. В книге собран 51 рассказ — тексты, максимально очищенные не только от лишних «историй», но и от условного «я»: пол, возраст, род деятельности и все социальные координаты утрачивают значимость; остаются сладостно-ядовитое ощущение запредельной андрогинной России на рубеже веков и язык, временами приближенный к сокровенному бессознательному, к едва уловимому рисунку мышления. Также для этой прозы характерны полистилизм, смешение жанров и безусловная искренность.
Софья Купряшина родилась и живет в Москве. Первые публикации — с 1991 года — в журналах «Соло», «Глас» (на английском языке), «Странник», «Вавилон» и других.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
А был ли подстрочник?
Кофе со сливками — седина шатена, пластилин. Эгей, страдалец, как твоя Елена?
Все пьет?
И сильно?
И прибить грозится?
Она вышла к нам в вишневом махровом халате, с вишневым лицом, жаждущим что-то принять; не лицо жаждало — глаза; она сосала свой язык. Потом сняла халат, предложила, но мы отказались.
Мистер Бренди и я любили шампанское больше философствующего влагалища.
Да-с, шампанское принесли, и мы принялись за него, понимаете ли.
Мисс Гаррисон сглатывала и давилась на тему дуализма. Хотела гадать на кофейной гуще, но кофе-то со сливками! (вы спросите, откуда у меня это древеснорусское «то» с дефисом-травинкой, изначально «от», отвечу — я ведь русский, эмигрировали родители, я Чашкин, Гавриил).
Бренди грассировал надломленно:
— Не кажется ли вам, что в сочетании «блеф, абсурд, бред» есть что-то скороговорно-рвотное? — тошнило в лифте…
Все мы настолько опротивели друг другу и настолько позабыли литературный труд, что оставалось только пить или принимать дозы порошков забвения; вялые пересуды и самодельные сплетни:
N.B. — вечнолающий кобель на цепи: и на своих точит зуб (хозяева чуть живы), и на чужих;
V.P. — съезжает с разумной полемики в тот же собачий овраг, заросший репейником; выходит оттуда покусанным полуимпотентом, трясет ухом, воет у своей суки на груди. Сука — литературовед, мастерица разгадывать филологические кроссворды.
Ну и все в таком духе.
Болтали до полудня — мисс Харрисон пошла пугать клозет. Время до сумерек сэкономили весьма дельно: пихали кошечке Гризетт здоровую сигару в зубы.
А далее — что же — новая доза, сердцебиение (Бренди чуть не выплюнул сердце); служба Недоверия.
Количество прототипов Ежа перевалило за сотню, и все восхищались лирическим отступлением: «Кофе со сливками — седина шатена…».
На прощание Бренди округлил свои отполированные зрачками глаза и взвел непокорные брови:
— Господа, а был ли подстрочник?!
И стало так грустно, будто ушел кофе.
Последний урок
Птицы крошками подгоревшего пирога осыпались вверх.
— Что же, — сказали мы, — Переделкино — это хорошо, это плодотворно.
Тевтон был прям, медлителен и аскетичен. Из-под ног его прыснули перепелки, зайцы, стрепеты, божьи коровки и мужички-ветераны. Пойди сюда, мужичок, я тебя… Что у вас с шеей? А что у нас с шеей? Синие полосочки — красный фиолет. Поклонники и поклонницы, не ждите пламенного поцелуя от тевтона. Кареглазость — кареблизость — обидная доминанта; брег, за которым озера. Зрите в пепле пальцев медь мечей и пламень хладный — звон озера; холод птичьей тушки, подобранной на болоте. Медь — мягка, ковка и пронзительна. В Переделкине сумерки. Холод зрачка. Медные подсвечники на кирпичах голландки.
Сплавы слов — металлы — свистящие спирали; телефон оборван посредине. Голова лося торчит из балконной стены. Городские изгороди, чай по рублю, водка в подъезде — теплеющая полюбовность — дрожь холода сменяют судороги жара — сальная свечка в консервах.
Бессветие. Свет стонул, облюбился, надел очки и сел стучатать. Или очки не снимал, а лег выписать кого ни то. Приставка «вы» сообщает глаголу насилие.
Странно это — темперамент — как температура: ртуть безвольна, симпатии — странны; история рода заставляет танцевать с поднятыми руками — кисти вращаются вокруг своей оси.
Или медленная эстонка с глазами ветра — дублирует гласные и согласные и внезапно пошевелится, волосы почти седы; ступор рук — вдруг — торжество медленного жеста (с двумя «т»)…
Мужичок прилег, не поняв, да так и уснул на синем мохе — мхе, мху — и видел холодные черные листья в воде. И мы проснулись с ним посредине: жизни, болота, земли.
— Вуокса, — сказал он и почесал бакенбард.
— Йа-а, — сказал я. — Юкси кофэ унд…
Он посылал меня в магазин, велел мешать раствор — желтки стыли, яйца ячеились — мы были посредине наций.
— Ой-йа! — Он отдавил мне ногу кирпичом.
— Я горжусь тем, что он никого так не мучает, как меня, — сказала я, и тут же заполыхало Тивериадское озеро. — В Тиверии, где месяц крови перевернулся в исступленьи, найдем взаимное томленье с бутылью боли и любови…
Он кутался в ватник, не вняв рифме, затянулся зечно — краем рта, без рук, и сказал:
— Ыть-выть, печь клысть — ытта — мыло…
Проволочная щетина с медным привкусом. Он снова мутировал.
Я просыпаюсь посредине — на кирпичах или под кирпичами. Его давно нет. Мне холодно. Что-то тянет меня вниз.
Минуя отвесную осыпь, я вхожу второй раз в ту же воду, и она — вспомнив — пускает, я плыву в бесконечность, и передо мной нет сейчас ничего, кроме мира мокрых искр.
Интервью
— А за что сидела-то? — интимно спросила меня простая, как три копейки, переводчица.
— За изнасилование, за что же еще, — ответила я и притянула ее за поясок к себе. Ноги у нее разъехались, и я просунула туда свою.
…Открывается, бывало, кормушка: «Мамки, на выход…» Идем по снегу — хрусь-хрусь. Вывеску «Дом ребенка» замело, а плакат «Дети — наше будущее» виден еще маленько. Наши орут. Вынешь грудь со звездою вокруг соска, он ее схватит, а ты думаешь: «Как же я его кормить буду вмазанная? Ну ничего: бог не выдаст, свинья не съест». А он давай от винта из одеяла выпрыгивать, маску рвет на мне — умора…
После этого переводчица перешла к своим прямым обязанностям и с глупыми вопросами больше не лезла.
На вопрос, вхожу ли я в горящую избу, мне пришлось ответить односложно:
— Пытаюсь.
— И что? — ответил он.
Это был западногерманский журналист, высоко взращенный на питательных вещах, стеклоглазый, обернутый флагом, совершающий неприличные, с точки зрения российского человека, движения, однако в не очень чищеных ботинках, некурящий, непьющий, создатель брошюр немецкого коммунизма, пытающийся понять русскую эротическую душу. Душа как раз была очень больна. Только что, вынув в туалете пальцами гнилой кровоточащий зуб, а потом клок волос из-за плохого питания, она вспоминала путанические экзерсисы в этом отеле, угол ментовской комнаты, забрызганный кровью, и много всякого такого, отчего хотелось плакать. Надо было залить рану водкой.
Он спросил меня, почему я так скованно сижу, если я была по этому делу.
— Потому и скованно, — I reply.
— Хи-хи! — сказал он и снова показал руками. — А что вас возбуждает?
— Да все. Это специфика русского человека.
— Вас возбуждает этот флаг?
— Нет.
— Why?
— Потому что он чистый.
Щас бы отринуть противоречия, забежать в буфет, схватить там коньяк с шоколадом и лечь в постель. Гогия, кацо… «Э-эх, — длинно присвистнул он сквозь дыру в зубах и сплюнул в нее гаврик, — где теи башмаки-и-и! Босявка ты, босявка…» Да-а-а… Самый смак потребувать себе сейчас дринка. Но косо смотрит Фриц Ферштейный, не дает спуску. Святой Йорген.
— А со своим полом у вас как?
Переводчица сильно вздрогнула.
— Да нормально. Бабы есть бабы, змеи подколодные, продажные флейтистки.
— А вы можете изменить любимому человеку?
— Если я не могу изменить его, то да. И вообще я его плохо помню, и вообще вопрос поставлен узко и плоско. Скажем, если он полярный экспедитор, что мне, разрядки не искать? Да и полигамность, да и многое другое говорит само за себя, что недоразумение как материал и как прием — сплошное недоразумение, потому что материал слит с приемом и равен ему. Но всею жизнию движет недоразумение. А если еще ширше, по Аристотелю — перипетия.