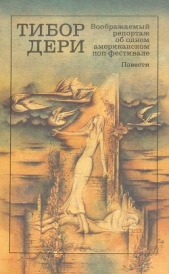Абель в глухом лесу

Абель в глухом лесу читать книгу онлайн
Арон Тамаши — один из ярких и самобытных прозаиков, лауреат государственных и литературных премий ВНР.
Роман «Абель в глухом лесу», действие которого происходит в буржуазной Венгрии, — подлинная поэма в прозе, воспевающая мужество и жизнелюбие народа. Его герой — бедный крестьянский мальчик, отданный отцом на работу в глухое лесничество, умом и сметкой преодолевает невзгоды, в самих трудностях жизни обретает душевную стойкость и жизнеутверждающий юмор; он добр и отзывчив к чужим бедам.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Словом, двенадцать саженей дров доходу мне принесли не так-то много, зато страхов — хоть отбавляй: дьяволы, можно сказать, все как один из можжевеловых кустов повыскакивали и все желали со мною дружбу свести. А тут еще и такое на ум пришло: может, эти, из банка, меня испытать хотели, излишек для того и оставили, ловушку мне приготовили! И придется мне к деньгам армянина этого еще жалованье свое за три месяца приложить, а то и тюрьмы отведать! Я бы уж предпочел, чтобы он и вовсе денег мне не давал, боялся этой дуриком доставшейся тысячи больше огня. И заснуть не мог, покуда не вынес деньги из дома. Куда б, думаю, спрятать их? Пошел к заветному буку-великану, достал одно ружье из дупла и, скрутив ассигнации потуже, засунул их в дуло. Потом старательно расчистил то Место, где стояли мои сажени, и забросал ветками.
Все, что можно, вроде бы сделал.
Еще и весточку в банк передал с возчиком из Середы, чтоб приезжали да забрали деньги, потому как лесу вывезли много, не дай бог кто-нибудь ограбит меня, а то и убьет. На другой день и в самом деле прикатил на мотоцикле кассир, принял у меня деньги, только пятьсот лей оставил — мое жалованье за ноябрь. Денежки спрятал, выпил стакан молока и укатил на своей тарахтелке.
А когда затих мотор, я так и схватился за голову: надо ж было насчет монахов его спросить! Расстроился я, места не находил себе, а на другой день, глядь, Маркуш является — вот уж, право, как бог послал. Я с Блохой как раз на дороге стоял, по которой возчики на вырубку заезжают, дождь моросил, и вдруг он, только не на той желтой коляске, а на большой арбе. Лошадей-то я признал еще издали, а вот Маркуша не признал. И Блоха не признала, хотя она разбирается в людях лучше меня. Но только дивиться тут нечему, потому как за это время Маркуша словно бы подменили. Лицо серое стало, щеки запали, одни уши лопухами торчали да нос. И одет он был по-другому, в тот-то раз приезжал в сутане, а теперь облепила его какая-то совсем ветхая мирская одежка, путь-то неближний был, да под моросящим дождем. И такой он худой показался мне! Сиденьем ему служила крашеная желтая скамейка, перекинутая через борта арбы. Ножки скамьи свисали по сторонам, с них тихо капали слезы. Маркуш, промокший до нитки, спрыгнул на землю, штаны на заду были желтые.
— А где ж давешняя шкура? — спросил я.
Маркуш понял, что я про сутану.
— Снять велели, — ответил.
— Это ж почему?
— Потрется, говорят, ежели я в ней и лошадьми править буду.
— Да она вроде и в тот раз была довольно уж потертая.
— Значит, не довольно, коль угадали, что сутана это.
— Я вас угадал, да только когда совсем близко подъехали.
На это Маркуш ничего не сказал, пощупал уши у лошадей, потом вытер им головы, спины и укрыл попоной.
— Ну, книги нужны еще? — спросил.
— Как не нужны, если хорошие!
— Все они хорошие, из бумаги да буковок, — сказал Маркуш.
Я заглянул в арбу, а там ящик, и не так чтобы маленький; ну, взялись мы вдвоем, в дом внесли, поставили на пол. Я дух перевел и спрашиваю:
— Может, железо здесь?
Маркуш вместо ответа откинул крышку и вывалил книги на пол.
— Хватит этого? — спрашивает.
— Смотря как хватит, а то и не встанешь, — ответил я с ходу.
Но и шутки-прибаутки мои Маркуша не развеселили. Был он вялый какой-то, пришибленный. Вижу, хворь человека точит, а он не признается: просто доля, говорит, такая, сиротская.
Я и прежде догадывался, что жизнь у него была не сладкая, так оно и оказалось. Пусть бы, думаю, излил мне свое горе-печаль, все б легче стало, да только очень уж глубоко залегли его беды в душе у него, на самое донышко опустились, без помощи им оттуда не вынырнуть. Но мне он был словно брат, и я быстренько сообразил, по какой дорожке к нему подойти поближе; прежде всего стянул с него насквозь промокшую ветхую поддевку и заставил влезть в затхлый овчинный тулуп, потом усадил поближе к огню и накормил. А когда увидел, что уже можно легонько и душевных струн коснуться, спросил дружески:
— И как же вы сиротою жили?
— Да скверно довольно-таки, — ответил Маркуш.
— Расскажите, если можно, конечно.
— Можно ли, сам не знаю, потому как никому еще про это не сказывал.
Тут я, чтоб подбодрить его, на святую неправду решился.
— От меня-то чего таиться, ведь и я сирота.
Маркуш поглядел на меня, его глаза полны были слез. Встал он, шагнул ко мне, пожал руку и тяжко так бросил:
— Коли так, будем на «ты». Сервус! [7]
— Сервус! — сказал и я, тоже поднявшись.
Потоптались мы, друг на друга глядя, под сенью братского «сервус», потом сели опять, помолчали. Наконец Маркуш собрался с духом, поглядел на меня просветленно-печально раз-другой и сказал:
— Вообще-то, скажу я тебе, моя жизнь с железной дорогой связана.
— Это для меня большая новость, — отозвался я, — потому как до сих пор я считал, что ты к монахам отношенье имеешь, а не к железнодорожникам.
— Живу-то я у монахов, но жизнью своей железной дороге обязан, — сказал Маркуш.
— Ну и ну! Как же это?
— А вот так, — начал свой рассказ Маркуш. — Моя матушка была девушка бедная, но ладная, и родные хотели ее силой за богатого парня отдать, одноглазого. Очень горевала моя матушка, потому как другого парня любила — он-то ее обоими глазами видеть мог! — и с горя великого убежала из дому, пошла скитаться по свету. Сперва шла пешком, но потом села на поезд и уехала, лишь бы одноглазому на глаз не попасться. А когда далеко уже от родных мест оказалась, сошла с поезда на первой же станции. Довольно большой станции, между прочим. Увидел ее железнодорожник один, он кладовщиком служил, заговорил речами красивыми, словом, поддержал, да так, что от этой поддержки и я народился.
— Господи, — вздохнул я, — вот оно как в жизни бывает!
— Матушка, — продолжал Маркуш, — так бы с железнодорожником этим и осталась, да только железнодорожник, как увидел, что с нею по его вине беда приключилась, однажды ночью сбежал да и сгинул, пропал насовсем. На той станции стоял поодаль старый купейный вагончик, заросший травою по самое брюхо. Вот это старье матушка для себя высмотрела, в нем я и свет божий, железнодорожный, увидел. Ну, на станции как-то прознали, что народился я, мать в больницу свезли. Освободясь оттуда, она на ту же станцию вернулась уборщицей. Прошло какое-то время, я уж на своих ногах ходить научился, и попросилась она, чтоб назначили ее в поездах убираться, надеялась где-нибудь повстречать моего бессердечного папеньку. И меня всегда с собою возила, чтобы, значит, ежели случится отца моего увидеть, тут же ему меня показать и тем пронять его, сердце растопить. Так мы и катались с ней туда-сюда, покуда мне шесть лет не стукнуло, и тут случилось совсем неожиданное и ужасное несчастье. Сентябрь стоял, смеркалось; и вот одному пассажиру вздумалось из себя большого барина строить, и приказал он моей матери выбежать на станции и купить ему сигарет. Мама все исполнила, но, когда уже с сигаретами возвращалась, поезд-то тронулся. А в поезде я, и сигареты ж отдать надобно — словом, попыталась, бедная, вскочить на ходу, да только господь бог распорядился по-иному, и попала моя матушка под колеса…
Горло у Маркуша перехватило, согнулся он в три погибели и заплакал. Я помолчал, пусть, думаю, выплачется без помехи, а потом тихонько спросил:
— А дальше-то как распорядился господь?
— Тот человек, который матушку мою за сигаретами посылал, взял меня из милости к себе, — продолжил рассказ Маркуш. — Он торговец был, кожами торговал, фабрику имел; скупал шкуры, рабочие их обрабатывали, а он продавал. Прожил я у него одиннадцать лет, но какие это были одиннадцать лет, знаю я один. Первые четыре года я хоть в начальную школу ходил, а уж остальные на его кожевенной фабрике провел, можно сказать, безвылазно, сам не знаю, как выдержал. Неблагодарным я сроду не был, старался для него изо всех сил, душу на работе выкладывал. Только он все равно как мог угнетал меня, чего только не измышлял, а чаще всего колотил почем зря. И прошло так ровно одиннадцать лет, день в день, но он и в этот день задал мне взбучку. И тогда я, в ответ ему, значит, два решения принял. Сперва одно: буду жить у него до тех пор, пока он опять не вздумает бить меня, а тогда сам на него брошусь и на месте убью. А второе решение было такое: пусть свершится над ним воля божия, я же сбегу, и дело с концом. Не хотелось мне на душу грех принимать, кровь чужую пролить, так что избрал я это второе решение и, как забрезжило, навсегда покинул воспитателя моего с его вонючими шкурами. Скоро прибился к монахам, они взяли меня в услужение, и вот уж год, как у них я.