Эшби
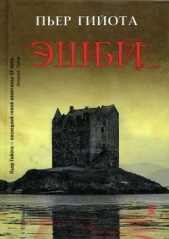
Эшби читать книгу онлайн
Я написал пролог к «Эшби» в Алжире, за несколько дней до моего ареста. «Эшби» для меня — это книга компромисса, умиротворения, прощания с тем, что было для меня тогда самым «чистым», самым «нормальным» в моей прошлой жизни, прощания с традиционной литературой, с очарованием англо-саксонской романтики, с ее тайнами, оторванностью от реальности, изяществом и надуманностью. Но под этой игрой в примирение с тем, что я считал тогда самым лучшим, уже прорастал и готов был выплеснуться мощный бунт «Могилы для 500 000 солдат», подпитывавшийся тем, что очень долго скрывалось во мне, во всем том диком и «взрослом», в чем я не решался признаться даже самому себе, в этой грубой варварской красоте, таившейся в глубине моего прошлого.
Пьер Гийота
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Иногда я думал о существе, которое должно было стать нашим ребенком. Я воображал, как оно, гибкое и нежное, растет как деревце, без ненависти в глазах, делит свои лакомства с деревенскими детьми, беззлобное, усердное, краснеет от любви и любит нас, несмотря на порочность нашей жизни.
Я размышлял.
Я видел рядом живого Кортни и не видел жизни в себе. Друзилла была красивой, гибкой, роскошной женщиной. Она была ненасытна.
Они прожили в Эшби месяц. До последнего дня внешне между нами сохранились теплые, братские отношения, но я знал, что Друзилла и Кортни встречались на стороне. Вначале Кортни скрывал свое смущение. Потом, предчувствуя удачу, он без стеснения брал Друзиллу за руку в нашем присутствии. Однажды он властно схватил ее, несмотря на робкое сопротивление, и я понял, что прошлой ночью они стали любовниками. Она казалась мне усталой, подавленной новыми чувствами. Кортни смотрел на нас победителем.
Я нисколько не ревновал. Для Друзиллы Кортни стал взрослым Дональбайном. Молодой человек искренне пытался казаться безразличным, но гордыня и ревность непрестанно одолевали его. Мир изобилует людьми, которые сильно заблуждаются на свой счет. Я, например, когда пытаюсь посмотреть на себя со стороны, сразу размягчаюсь. Я нахожу в себе доброту и умиление, остатки былой искренности и обеспокоенность духовными вопросами. Никогда не мог сказать определенно, верю я в Бога или нет. Старая книга об испанской инквизиции продолжает разжигать во мне гнев, в то время как Друзилла восхищается логикой и твердостью этой полиции.
Один священник едва не расцеловал меня после подобной исповеди: «В вас живет вера, сын мой, искать — значит верить и т. д. и т. д.». Нет, я не верил в Бога, и меня это нисколько не смущало. Мы не должны жить жизнью других. Я без страха уснул бы над новым исповеданием безверия и во веки веков оно не заставило бы меня воспрянуть. Ныне мы привыкли к самым великим безумствам мира сего. Черствость и безверие произрастают из плоти.
У меня не было никакого желания обратиться. Это все равно, что умереть. Верить в Бога — значит оскопить себя и мир, набросить покрывало на половину человека и земли, значит совершить измену.
Кэтрин Бон, жена Кортни, обожала Друзиллу, впивала ее слова, подражала ее голосу и походке. Она поверяла ей свои самые сокровенные тайны. Друзилла, наверно, пересказывала их Кортни во время их ночных свиданий. Иногда, в то время, как Кэтрин спала рядом с ребенком, до меня доносился их смех. Однажды ночью я столкнулся с Кортни в галерее Аполлона; увидев меня, он отшатнулся, попытался убежать, но я подошел к нему, улыбаясь, и предложил ему прогуляться по парку, чтобы, как я сказал, развеять нашу бессонницу. Не говоря ни слова, он последовал за мной на лестницу. Мы спустились по ступеням. В парке, в розовом кусте у последней ступеньки, сверкали два светлячка. Я указал на них Кортни. Он немедленно устремился к ним взглядом, словно боялся выказать хоть малейшее безразличие ко мне. Этой ночью мы долго говорили о ночном движении: зверей и растений, людей и камней, воды и облаков. Под конец он почти забыл, что только что наставил мне рога — хотя и был уверен, что я об этом знаю.
Кэтрин Бон боялась меня. Она не осмеливалась говорить со мной наедине. А ведь к тому времени мой демонический взгляд сильно потускнел.
Я мог бы воспользоваться ее простодушием и моим воздействием на нее. Но я не стремился ее соблазнить: ей еще предстояло узнать, что ее муж ей изменяет. К тому же для меня это оказалось бы слишком легкой победой.
Итак, я оставил при ней ее первые подозрения. Кортни проявлял в ее присутствие легкое беспокойство, на целые дни забывал о своем ребенке, в спорах всегда вставал на сторону Друзиллы. Я же, сам того не желая, всегда оказывался на стороне Кэтрин.
Кортни Бон удивлял меня. Я представлял себе борьбу между его врожденной скромностью и желанием, когда он в первый раз коснулся руки Друзиллы: бегут секунды, он придумывает отговорки и отсрочки, вот сейчас пройдет человек или животное, пробьют часы, пробежит по земле тень от облака. Но время проходит, рука опускается вдоль тела. И ее дрожь обличает томление.
В глубине души ему не могла не льстить любовь Друзиллы; она возбуждала его любопытство — именно такое чувство вызывает в подобных ему, любезно-легкомысленных людях, страсть, внушенная ими глубокой и развитой женщине. Или, скорее, не страсть, а искушение плоти и смятение духа.
Друзилла же была этой самой глубокой женщиной, непознаваемой и в то же время простой и ясной. Кортни стал для нее одним из тех горестных приключений, в которые женщина пускается без раздумий.
Я готовился к катастрофе.
Была ночь. Вечером в Бервике были куплены билеты до Лондона. Кортни, Друзилла и я после купания зашли на чашку чая к Лауре Пистилл. Кэтрин осталась в Эшби. По возвращении Друзилла и Кортни целовались на заднем сиденье, Джонсон уважительно смотрел на них в зеркало. Джонсон был в некотором роде молчаливым Сганарелем. Он понемногу втянулся в нашу инфернальную жизнь, он даже проникся от причастности к ней некоторым тщеславием, рассчитывая покаяться перед смертью.
Итак, Друзилла и Кортни перестали скрывать свою любовь. Пылкость, с которой они закончили прогулку не покидала их, и Кэтрин увидела наконец, что они любят друг друга. За обедом Кортни ласкал обнаженную руку Друзиллы, а потом, когда мы проследовали в салон, решительно обнял ее за талию и привлек к себе. Кэтрин вздрогнула, вцепившись в мою руку. Мы поднялись в свои спальни. Гася свет в салоне и в галерее, я увидел Джонсона, стоящего на лестнице, подняв глаза к окнам второго этажа: неподвижный и хрупкий в своей рыжей кожаной куртке, он терпеливо ждал.
Ближе к полночи, когда я уже хотел погасить лампу, в мою комнату вошла Кэтрин. Полуодетая, с распущенными волосами, она шла к моей постели, повторяя: «Возьмите меня, возьмите меня, я вас умоляю!» Я понял, что таким образом она рассчитывает отомстить за оскорбление, которое ей вечером нанес муж. Долго она молила меня об отмщении. С сухими блестящими глазами, с жесткими губами, она просила меня стать ее любовником, чтобы сохранить равенство, обещанное ими друг другу в начале их любви. Кэтрин принадлежала к той горделивой части человечества, проклятьем для которой служит верность. Она выбежала из моей спальни, крича, что я лицемер и слабак; в самом деле, это уже давно была подлинная правда. На заре в мою комнату вошел Джонсон, умоляя меня подняться к Друзилле. Кэтрин ударила Кортни ножом, а Друзиллу — серебряным подсвечником по голове, а потом выпрыгнула в окно и разбилась о мраморные ступени. Пока Джонсон подносил раненым сердечные средства и нюхательную соль, я наклонился в окно: белое, успокоенное тело Кэтрин колыхалось в сентябрьском тумане.
Друзилла пришла в себя, Кортни отвезли в больницу в Бервик. Кэтрин умерла. Кортни стал набожным, отказался видеться с нами, разорвал наши письма и вернулся в армию. Его повысили в чине, и он утешился. Два года спустя мы встретили его у Лауры. Теперь это был жалкий человек, еще более нескладный, чем раньше. Слушая его, глядя на него, можно было подумать, что он забыл Кэтрин, как забывают юношеский флирт.
Деньги у нас были. Туристы останавливались у решетки и осматривали сверху донизу башню Абершоу, где Дональбайн, лежа на животе на вялых яблоках для сидра, сочинял свои первые стихи. Друзилле являлись призраки: мадмуазель Фулальба плакала в учебной комнате, множилось эхо осиных роев, розы, сорванные ею, увядали в ее пальцах, ковры змеями сползали со стен. Мадмуазель Фулальба до сих пор дразнила наше воображение, она душила нас, хихикала в глубине галереи, грубо распахивала двери заброшенных комнат, по которым мы проходили зимними вечерами, ее ладонь наклоняла цветы в оранжерее, когтями впивалась в наши затылки, скользила по груди; мы пережили минуты отчаяния, почти безумия: Друзилла со слезами, криками, дрожа всем телом, бросалась ко мне. Она совсем не могла оставаться одна; скорчившись на диване, подогнув под себя ноги (когтистая рука могла в них вцепиться), она накрывалась пледами и шалями и малейшее дуновение, малейший шум доводили ее до судорог.
























