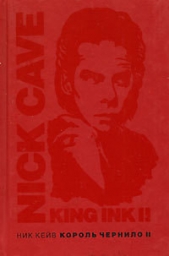И узре ослица Ангела Божия

И узре ослица Ангела Божия читать книгу онлайн
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Минуту или две взирал я на эти ноги и не слышал вокруг почти ничего. Меня охватило удивительное спокойствие, и оно словно передалось всему окружающему. Я увидел, как левая нога дернулась раз и сразу же еще и еще раз, словно пытаясь привлечь к себе внимание. Наконец, после многократных подергиваний, ее заметили; несколько мужчин, подскочили и извлекли из мутной гнилой пучины кресло на колесиках вместе с безмолвной старухой. На голове Уильмы Элдридж был напялен смолянисто–черный колпак из свисавшей на плечи тины, а все ее тело окутывал кокон из всякой дряни, которая плавала в воде, — мертвых листьев, сгнивших стеблей и утонувших метелок тростника. Близнецы Шульц подняли Уильму, закоченевшую и синюю, и усадили в кресло, не обращая внимания на ее мужа, который суетился вокруг, повизгивая как хорек Бейкер Уигтам набросил свое тяжелое серое пальто на дрожащее тело старухи, а та обратила тем временем лицо к ярящемуся небу, чтобы позволить дождю смыть отбросы с ее головы и плеч.
Толпа, слегка отрезвленная происшествием, отложила на потом святое дело крещения и выбралась на берег. Эби По последовал примеру паствы. Он подошел к покореженному при падении креслу и взялся за его ручки. Внимательно оглядев собрание, он одним взглядом заставил смолкнуть говорунов, затем шумно втянул носом воздух и вскричал: «Чуете серную вонь? Принюхайтесь.
Запомните этот запашок. Сера! Здесь пахнет Сатаной/* И склонившись к уху Уильмы Элд–ридж, По прошептал ей, прошептал так, как умел только он: с ядовитым шипением, злобным присвистом, казалось бы, ей одной, но так, чтобы все слышали каждое слово.
— Да славится Господь, Уильма Элдридж, — прошептал он. — Сатана, имя тебе — погибель. Дьявол своею рукою толкает нас в бездну. Но Господь извлечет нас из нее мощной десницей!
— Аллилуйя! — с готовностью отозвалась паства. Услышав эти слова, я содрогнулся в зарослях осоки, ибо в словах проповедника мне послышались кровожадные нотки. Кровожадные?
Честно говоря, ото всех этих разговорчиков о том, кто кого толкает и кто кого извлекает, у меня просто в глазах потемнело, если вы понимаете, о чем это я. И в зарослях осоки мне стало сразу так же неуютно и зябко, как забулдыге в церкви. В нескольких футах от меня захныкал ребенок, и голосок его пробился и сквозь гул дождя, и сквозь рокот толпы, заглушив отчаянный перестук моего встревоженного сердца.
— Вон он, Дьявол! Это он рукой толкнул в бездну! Это он сделал. Я видел. Снял кресло с тормоза и толкнул. Бу–бух! Видите? Там вон, в осоке, обделался со страху — знает, что виноват!
Уиггем Большие Кулаки стоял расставив ноги и, показывая на меня своей пухлой конечностью, брызгал слюной.
— Вон тот идиёт ее пихнул в лужу! Вон тот идиёт! Вон тот говнюк! Вон тот говнюк!
Внезапно все сделали шаг в мою сторону! И еще один шаг!
Из толпы мгновенно возник Эби По. Закатав выше локтя рукав своего грязного исподнего, он засунул руку в заросли осоки, ухватил меня за загривок здоровенной, вымазанной в черном иле ручищей и извлек на свет Божий.
Проклятущая толпа сгромоздилась вокруг, пялясь на меня с крайним отвращением. Все кивали головами, все бормотали «ага!>>, «вот он!» и «попался». Сразу откуда–то нашлось сотни две свидетелей моего преступления.
Стальные пальцы По впились мне в шею, и мне ничего не оставалось, кроме как уставиться потупившись в землю.
— Откуда ты взялся, а?! — прорычал мне в ухо По, затем повернулся к толпе и крикнул: — Чей это мальчик?
Уиггем Большие Кулаки отозвался первым: — Это вон тех подонков, что в той лачуге живут, наставник! — и ткнул в сторону моего дома пухлой лапой* — Как тебя зовут? — спросил По, ухватив меня за подбородок и задрав мое лицо вверх, чтобы лучше разглядеть. —Я тебя спрашиваю или нет?
— Да никак его не зовут! Если у него и есть имя, он все равно не скажет. Идиёт он!
Дурак немой! — взвизг-' нул Большие Кулаки… и тут я вывернулся, засунул руку в грязную пасть, рванул изо всех сил и швырнул кровавый ошметок слизистого языка, все еще шевелящийся, прямо ему в пухлые трусливые ручонки… но нет, конечно, я ничего подобного не сделал. Конечно же, не сделал. Вместо этого я посмотрел По прямо в глаза. И мне сразу же стало страшно от того, каким взглядом он мне ответил. Лицо его чудовищным образом измени*-лось. Ужасный алый шрам побледнел и стал тускло–лиловым, а глаза его — глаза стервятника — потускнели, как два дымчатых опала, словно адское пламя, горевшее в них, внезапно погасло, хотя все еще продолжало чадить. Голос По внезапно зазвучал глухо, и когда он заговорил, казалось, что он говорит не со мной, а с кем–то внутри меня.
— Зрите все, се — дитя, одержимое бесом немоты! Как давно вселился в него сей бес? Полагаю, лет десять уже он мучает эту злосчастную душу.
— Не угадал. Тринадцать с половиной, — подумал я.
— О поколение, утратившее веру, сколько еще тер–петь мне беззаконие твое? — возопил По.
— А мне — твое?! — воскликнул я про себя.
— Я — дух Илии, — загробным голосом возгласил По, — очищаю, исцеляю, вопию в пустыне.
Толпа зашевелилась, отчаянно пытаясь получше разглядеть происходящее.
— Если воистину уверуешь, то все станет тебе возможным. Истинна ли ваша вера? — спросил проповедник, не обращаясь ни к кому в частности. Некоторые, не очень понимая, кого именно вопрошает По, крикнули в ответ «Да!» или «Истинно верую!» — Тогда, дух немоты, заклинаю тебя: изыди из этого ребенка и не входи в него более!
И тут, скажу я вам, внутренность моя содрогнулась и я внезапно понял, — да, да, именно понял, — что сейчас заговорю — непременно заговорю. Судорога поднялась от моего чрева к груди, подкатила к зеву — и я харкнул от всей души.
Здоровый сгусток харкотины коснулся правого колена Эби По и пополз вниз по его голени, оставляя за собой паскудный зеленый след, и так он полз и полз, пока не проскользнул между пальцами ноги.
Я скрежетал зубами, брызгал слюной и пускал пену. Я дико тряс головой.
Внезапно все слова, которые я когда–либо хотел сказать, столпились у меня в глотке, ибо бес немоты покинул мое тело.
Толпа расступилась, отшатнулась, разредилась, устрашенная тем, как я брыкался и бился, тем, как я, закатывая глаза, колотил себя в грудь, готовый возопить «Аллилуйя! Славен Господь милосердный на небесах!». Тем, как я то рыдал, то смеялся, катаясь из стороны в сторону в грязной луже.
Люди расходились, понуро опустив головы и бормоча себе под нос слова, которых я не мог расслышать. Я вскочил и побежал вверх по склону, пробивая, прокладывая, расчищая себе путь в толпе. Вскоре сборище осталось уже далеко позади. Я упал в траву, нагой, загнанный, и смотрел сверху на людей, которые устало плелись к дороге, возвращаясь домой. Разгладив ладонью сырую траву, я приложил ухо к раз* мокшей почве и стал слушать, как разбиваются о землю капли дождя.
XI
Я помню времена, когда еще благорастворялись воздухи. Времена, когда небеса были лазурно–голубыми и разве что яичная скорлупа кучевых облаков покрывала их безбрежную гладь. Времена, когда долину наполняли только пронзительные песни цикад да нескончаемое перешептывание листьев тростинка. Времена, благоухавшие сосновой смолой и цветами апельсинового дерева. Времена, когда в сумерках блуждающие огоньки и летающие светлячки мерцали в зарослях орляка и воронца, когда гудящее дыхание лета ласкало зыбкие ланиты вод, раскачивая из стороны в сторону стебли осоки. Помню времена, когда в году все еще было четыре сезона, а день сменялся ночью. Времена зорь вечерних и утренних, дисков солнечных и лунных. Времена, когда вся зелень долины торопилась выспеть, дабы принести людям щедрый урожай в награду за радение в тяжком труде. Люди же славились крепким здоровьем, ладным бытом, христианским милосердием, братолюбием и богобоязненностью, и солнце никогда не забывало осыпать их своими благодеяниями. Я помню те времена, когда в долине еще царил мир.
Но только не для меня. Уж я–то всегда был здесь чужим.