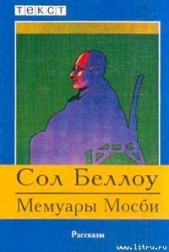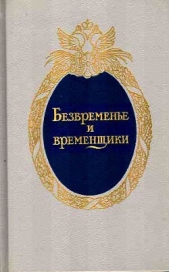Мемуары сорокалетнего

Мемуары сорокалетнего читать книгу онлайн
Сергей Есин — автор нескольких прозаических книг. Его произведения публиковались в журналах «Знамя». «Октябрь», «Дружба народов», «Юность», в еженедельнике «Литературная Россия» и хорошо известны читателю.
В повестях и рассказах, составивших новую книгу, С. Есин продолжает исследовать характеры современников, ставит сложные вечные вопросы: для чего я живу? Что полезного сделал на земле? Утверждая нравственную чистоту советского человека, писатель нетерпим к любым проявлениям зла. Он обличает равнодушие, карьеризм, потребительскую психологию, стяжательство.
Проблема социальной ответственности человека перед обществом, перед собой, его гражданская честность — в центре внимания писателя.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Зойка сидит за столом с книгой. Рядом с нею пепельница. Ее круглое, татарское лицо блестит. Возле левой ноздри черный пористый комочек бородавки. Большие серые глаза глядят печально и умно.
Зойка учится на заочном отделении филфака. Когда она занимается — неизвестно, но вроде переходит с курса на курс.
Мне под вечер просто нечего делать, я зашел убить время, но у Зойки свои правила.
— Слушай, Дима, — говорит Зойка, — давай я тебе почитаю.
И она читает мне вслух одну, две, десять страниц из «Бесов» Достоевского, из «Идиота», подклеенного папиросной бумагой, из «Бедных людей» с ломкими, пожелтевшими страницами. Иногда она читает главы из Диккенса: «Жизнь Давида Копперфильда, рассказанная им самим», «Жизнь и приключения Николаса Никольби» и «Посмертные записки Пиквинского клуба»; в ее интерпретации — это новые произведения, хотя я и читал их раньше. Ничего почти не объясняя, она чистит произведение, как новогодний мандарин.
— Ты обрати внимание на юмор.
И зверь под названием юмор раз от разу становится для меня менее загадочным.
За стеной уже слышны «Последние известия». Того и гляди, меня начнут разыскивать, но Зойка неумолима.
— Теперь сам, Дима, прочти страничку из прекрасной книжки «Невидимки за работой». Правда здорово?
Как же много книг у нее помещалось на этажерке! Или, может быть, их казалось много, потому что все это были тома освоенные, хорошо известные владелице? Она ориентировалась в них, как крестьянка в огороде.
Уже в то время дала мне Зойка урок книжного собирания. А жизнь с ее модой не дефицит подгоняет: бери, что дают! А зачем? Мы покупаем книги, которые уже не успеем прочесть. Ведь бумага современной книги рассчитана на жизнь в два-три десятилетия.
Часто в спорах о возникновении книжного дефицита ссылаются на одну распространенную издавна традицию: семейные библиотеки, складывающиеся годами. Все правильно, кроме одного: это были прочитанные и освоенные библиотеки. И когда в писательской «Книжной лавке» мне хочется взять очередной вышедший том, впрямую своим содержанием не затрагивающий моих читательских или писательских интересов, я вспоминаю Зойку, которая, наверное, могла бы вынести свою библиотеку на плече.
Человек должен быть свободен. И вообще, какую удивительную скромную жизнь вели русские интеллигенты еще совсем недавно. Как были свободны от быта, от ненужных вещей. Почти по сегодняшним меркам бедные с непарадной мебелью комнаты дома в «Ясной Поляне», комната В. И. Ленина и Н. К. Крупской в доме на Широкой улице в Ленинграде с этажеркой в углу, обстановка в Михайловском под Псковом. И явление это, видимо, было интернациональным. Тут же по ассоциации вспомнил загородный дом Гете в Веймаре — его личный, не парадный дом первого министра Веймарского герцогства, первого поэта Европы. А сейчас мы не можем поехать за город на три дня, потому что некому отдать для призора праздного кота, потому что в субботу придет агент по страхованию имущества или надо на лето перетрясти и засыпать нафталином зимние шубы и ковры. Многовато быта! Музейные изыски современных жилых интерьеров — это достижение наших дней. Опыт показал, что простенькие, с картинками на стенах и портретиками единомышленников и родственников комнаты скорее становятся музейными. И все чаще я размышляю о скромной библиотеке в комнатке как пенал, двери которой открывались на безобразную лестницу с железными перилами.
Глаза у меня слипаются, но за гостеприимство я еще не заплатил. У Зойки сложные отношения на факультете с преподавателями и студентами. Она рассказывает мне о них. Неожиданно я нахожу психологические мотивировки чужим взглядам, жестам, поступкам. Так мы сидим и беседуем. Десять страниц Достоевского или Диккенса и неспешный разговор. Тогда еще не была известна и не вошла в моду знаменитая максима Сент-Экзюпери о «роскоши человеческого общения». Но словечко «общение», видимо принесенное Зойкой из университета, порхало по нашему дому.
К самому «общению» Зойка относилась свято, щедро, я бы сказал, истово. Она заводила разговоры о психологизме Толстого, юморе Диккенса или особенностях личности Достоевского независимо от того, кто был ее гостем. Тут же она могла начать цитировать, наизусть читать или воскликнуть: «Сейчас я вам прочту двести семнадцатую страницу «Бесов». Все свои избранные места в произведениях писателей, хранившихся на этажерке, она знала по номерам страниц. С этими разговорами Зойка подходила ко всем, независимо от одежды и образования, — это была какая-то радостная презумпция интеллекта в человеке.
Один раз, когда сидел я у Зойки в гостях, зашла мама: «Дайте-ка я посмотрю, чем вы занимаетесь». Зойка свернула свои университетские исповеди и начала веером пушить хвост перед мамой. Она читала Достоевского, говорила о юморе Диккенса, о Фрейде, то есть о всем том, что, по моему убеждению, являлось средоточием человеческой мудрости и пиком интеллектуализма и интеллигентности. По лицу мамы, по ее вежливой улыбке я понимал, что было ей это неинтересно, она всего этого не понимала. И мне тогда стало горько, неловко за маму. Но это был единственный случай в жизни, когда ореол мамы чуть дрогнул.
Зойка была поразительным собеседником. Но тогда мне трудно было судить, насколько мысли, высказываемые ею, были оригинальны, но каскад их был изумителен. Я ожидал, что со временем Зойка проявит себя в науке, в литературе. С годами моя опытность сделала поправку на восторженность юношеского восприятия, и нимб Зойки чуть померк, но все равно долгие годы я следил по специальным журналам и карточкам рефератов, не мелькнет ли где-нибудь ее фамилия. Нет, с грустью говорю, нет. Видимо, вся она ушла в эти бесконечные, такие волнующие в момент свершения разговоры. Но все равно, как прекрасно, что такие люди есть, что они несут в себе заряд истинной интеллигентности и бескорыстной любви к знанию.
Прощаясь с Зойкой, я хотел бы еще раз отметить две черты в ее характере. Первая — искренняя любовь к книгам.
И вторая. Она была страстной москвичкой. Когда в середине шестидесятых годов начали тормошить наш особнячок, забирая его под посольство, то все мы, жильцы, намучившиеся в тесноте, готовы были ехать хоть на край света, лишь бы в отдельные квартиры. По-другому поступила Зойка: «Только в центре старой Москвы, пусть будет и общая квартира — я привычная». Привычке жить рядом с большими библиотеками, театрами, музеями она не смогла изменить и тогда.
Духовное для нее опять оказалось на первом месте.
Знакомые брата
…И у брата появились во дворе друзья. Это были его ровесники, и вели они жизнь таинственную, отличную от жизни моих сверстников с казаками-разбойниками, поездкой на купание в Серебряный бор и устройством внутреннего телефона между вторым этажом и подвалом, то есть между мной и Абдуллой. Товарищи брата ходили в белых пыльниках и белых шарфах, умели сплевывать между зубов так, что слюна тонкой струйкой летела на несколько метров, курили папиросы, сверкали золотой или стальной коронкой на переднем резце, носили веселую кепку-восьмиклинку с маленьким козырьком и кнопочкой на макушке.
У этих ребят были собственные дела и развлечения. Но любимым было стоять возле ворот и разговаривать на своем, только им доступном языке. Целый ряд понятий и выражений здесь имел другие звуковые огласовки: справка называлась у них «красивой», разговор — «феней», ботинки — «прохорями», девушка — «марухой», для слова «есть» нашелся глагол «рубать», а разговаривать значило «ботать».
В компании у ворот были и девушки. Девушки не стеснялись в выборе слов, пили, как и ребята, водку. Старшие ребята вместе с девушками уходили на чердак или в сарай, выходили оттуда растрепанные, в пыли и паутине. По рассказам мы уже знали, что там происходит, и иногда мы, малышня, цинично об этом рассуждали, называя некрасивыми и грубыми словами. Но я думаю, что большинство моих сверстников не очень-то верили в то, что говорили, я даже считал, что это какая-то словесная формула и что взрослые ребята не могли совершать такие некрасивые, смешные действия.