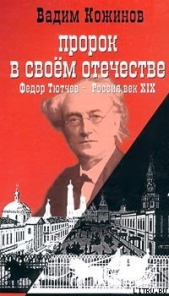Псалом

Псалом читать книгу онлайн
Фридрих Горенштейн эмигрировал в конце 70-х, после выпуска своевольного «Метрополя», где была опубликована одна из его повестей — самый крупный, кстати, текст в альманахе. Вот уже два десятилетия он живет на Западе, но его тексты насыщены самыми актуальными — потому что непреходящими — проблемами нашей общей российской действительности. Взгляд писателя на эту проблематику не узко социален, а метафизичен — он пишет совсем иначе, чем «шестидесятники». Кажется иногда, что его свобода — это свобода дыхания в разреженном пространстве, там, где не всякому хватит воздуха. Или смелости: прямо называть и обсуждать вещи, о которых говорить трудно — или вообще не принято. Табу. Табу — о евреях. Дважды табу — еврей о России. Трижды — еврей, о России, о православии. Горенштейн позволил себе нарушить все три табу, за что был неоднократно обвиняем и в русофобии, и в кощунстве, и чуть ли не в антисемитизме.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Как истомлено должно быть сердце твое, — говорит Господь через пророка Иезекииля, — когда ты все это делала, как необузданная блудница.
С младенчества испытала на себе Мария вторую казнь Господню — голод, но вкусно утоленный голод пьянит, возбуждает, разжигает тело, и вместо второй казни идет третья казнь Господня — дикий зверь — похоть, прелюбодеяние.
Не отпускала Мария от себя грека до утра, не отпустила бы и дольше, но грек сказал:
— У нас мужчина должен насиловать женщину, а не женщина насиловать мужчину… Ты глупая девчонка, поела много моего мяса и хочешь насиловать меня, греческого мужчину…
И выгнал Марию грек, даже не покормив ее на прощание. Пошла Мария назад в город Керчь в тоске и голоде, поскольку сытость от жареного мяса она потратила на то, что делала с греком до утра. Приходит Мария в рабочую казарму — общежитие из красного кирпича, где жила она с матерью, и страшится встречи и думает случившееся утаить половчее, как утаила она от матери и насилие над ней Гриши в сарае, и мужчину и кальсонах, которого у Ксении застал муж. Однако то утаить легче, что произошло, когда Марии было одиноко на чужбине, а сейчас она при матери. Приходит с такими мыслями Мария в казарму, поднимается по железной лестнице, встречает ее в коридоре Матвеевна заплаканная, говорит:
— Где ты была? Мы тебя искали, поскольку мать твоя попала под поезд, и ты теперь сирота.
Сначала не поняла Мария, о чем говорит Матвеевна. Когда же поняла, села Мария на пол в коридоре возле своей двери и сидит. Мать ее лежала меж тем в сосновом гробе, который установлен был на обеденном казенном столе меж четырех казенных коек. И вокруг народа множество с ней прощалось, главным образом женщины, но были и мужчины, друзья Савелия, который и сколотил сосновый гроб.
— Ты почему сидишь здесь? — сердито говорит Марии тетка Ольга и в платочек сморкается, глаза утирает. — Почему с матерью прощаться не идешь?
Но Мария без ответа сидела на полу в коридоре у двери, и не было у нее ответа ни для кого. Только приоткроет немного дверь из коридора, щелочку, и видит самый конец, макушку неподвижной головы матери в белом платочке Матвеевны. Посмотрит так минуту-другую и закроет. Долго прошло, может, час прошел, пока она щелочку расширила, чуть сильнее дверь приоткрыла и видит белый лоб матери под платком Матвеевны. Закрыла опять Мария дверь и сидела так без ответа еще долго, потом приоткрыла дверь больше и видит: свеча у матери горит в сложенных на груди руках. Опять закрыла Мария дверь и, как ни упрашивали тетка Матвеевна и дядька Савелий войти попрощаться с матерью, не пошла, осталась в коридоре. И еще три-четыре раза открывала Мария дверь, все шире с каждым разом, пока не увидела мать свою, лежащую во гробе в белом платочке Матвеевны со свечой в руках, в черном своем платье суконном, Которое надевала по праздникам еще дома, на хуторе Луговой… Вспомнила Мария, что, когда шла через заказ в деревню Поповку к бабушке и дедушке на Пасху, и отец еще когда живой был, и Вася дома был, но малый, как Жорик, а Жорик еще не родился, была одета мать в это черное суконное платье… Только увидела Мария мать всю целиком, привыкла она, распахнула дверь настежь и вошла в комнату прощаться. Ноги у матери во гробе были босые и белые, как лицо и руки. И пришло множество детей, которые жили в общежитии при родителях, даже из других корпусов, и всем им раздавала тетка Матвеевна яблоки, пряники и маленькие крымские орешки фундук.
Так не стало у Марии матери, и что с Марией делать дальше, никто не знал. Хоть и хороший вокруг народ, но чужой, и Мария им чужая.
— Надо ее к сестрам-братьям отправить, — говорит дядька Савелий. — Хочешь к сестрам-братьям? — спрашивает он Марию.
— Нет, — говорит Мария, — Шуре и Коле, которые на хуторе, самим голодно, а у Ксении, которая в Воронеже, муж меня невзлюбил, Алексей Александрович, железнодорожный техник.
— Тогда в детдом, — говорит Матвеевна, — здесь в Керчи хороший детдом. Заплакала Мария.
— Я, — говорит, — детдома больше всего в своей жизни боюсь.
— А чего же ты хочешь? — говорит Матвеевна. — Возраст твой такой, что никак нельзя тебе без присмотра, поскольку ты на дурную дорожку собьешься и займешься либо воровством, либо проституцией, а может, и тем и другим вместе.
Отвечает Мария:
— Я сроду у людей не воровала, а только лишь просила у людей. Васю, брата моего, я от воровства не уберегла, и за это я, верно, виновата. Но что такое проституция, даже и не знаю.
Дядька Савелий смеется и говорит:
— Это когда женщина гулящая делает за деньги то, что женщина законная делает бесплатно.
— Фу, бесстыжий, — говорит Матвеевна. — При девочке такое говорить.
Однако Мария поняла, о чем речь, она теперь в таких вещах понятливей была, и подумала: «Значит, то, что Ксения с Алексеем Александровичем делала, — это одно, а то, что я с греком делала, — это другое… То разрешено, а это к воровству приравнивается, это утаивать надо особенно сильно».
И вышла она из комнаты в страхе, что догадаются про грека из города Еникале, и вышла в тоске: как избежать ей детского дома в городе Керчи. Но жить решила в Керчи, поскольку Керчь — город хороший, теплый и при море, о котором перед приездом своим сюда Мария представле-ния не имела. Она до того, как в первый раз с матерью и Васей из города Димитрова выехала, даже и что такое поезд не знала, хоть что такое паровоз знала. И что такое пароход, она теперь знала, и что такое шаланда, и многое другое, поскольку ходила в порт просить. Несколько раз она делала с матросами то, что следовало утаивать особенно сильно и что приравнивалось к воровству, но потом ее побила какая-то женщина гораздо сильнее, чем в Курске, и Мария перестала ходить в порт. Да и матросы все это делали впопыхах, на твердых скамейках или на полу, и Марии ни разу не удавалось больше использовать их мужскую силу в свое удовольствие, как использовала она силу грека. Платили же ей не жареным мясом, а хлебом или сухой рыбой, которые можно было выпросить и без таких дел, что приравнивались к воровству. Когда же Марию в порту побила женщина, то и вовсе заниматься таким делом расхотелось, по желание осталось хоть еще раз испытать И застонать от испытанного напевно, как стонала сестра Ксения от мужа и любовника и как стонала она от грека, который почему-то под утро рассердился и остался ею недоволен.
В общежитие, где жила до смерти ее мать, Мария не ходила, боялась, что Матвеевна поймает и отведет в детдом. Ночевала Мария где придется, поскольку весна в городе Керчи теплая, а при дожде всегда можно найти навес.
Раз в теплую ночь решила она заночевать на берегу моря под навесом, поскольку иногда со звездного неба брызгал короткий дождь, минуту-другую пошумит над навесом и перестанет, потом опять минут пять-десять пошумит. Луна над морем ничем и близко не напоминала харьковскую, постную, голодную и вялую, которая если и блестит, тот как в тифозной лихорадке, и которая может нравиться только от отсутствия другой, и которая если и играет, то лишь в сравнении с курской, вовсе тощей и строгой. Морская луна по жирности не уступает полтавской, но размерами в несколько раз превосходит ее. И полтавская, как, впрочем, и харьковская, и курская луна, то над полем, то над лесом-заказом прочно висит, а морская луна словно все время в падении находится. Вот-вот услышишь плеск от ее падения в море. Но не падает, и от этого ожидания, что вот-вот упадет, сердце волнуется.
В ту ночь пребывала Мария в таком сердечном волнении, может, оттого, что накануне плохо подавали и была она голодна, а может, оттого, что дождь шумел сегодня как-то по-особому, словно поговорит с навесом и замолчит, подумает, потом опять поговорит. И небо было все в больших южных звездах, луна же так неустойчиво находилась на небе и так велика была, что, казалось, приблизилась вплотную, и закрой глаза, услышишь плеск, а открой — не будет больше луны на небе. В таком состоянии находилась Мария, и спать ей не хотелось. Вдруг слышит она, идет кто-то вдоль самой кромки моря, и мокрые морские камушки у него под ногами шуршат. Посмотрела она — мужчина идет. Пойду, думает Мария, попрошу у него хлеба, а если так не даст, может, лягу с ним под навесом, и за это он даст хлеба или сушеной рыбы. Подошла Мария к мужчине и узнала в нем чужака с ее родной Харьковщины, но здесь, в городе Керчи, где она была после смерти матери в полном одиночестве, он ей чужаком не показался. И сказала Мария, протянув руку для подаяния: