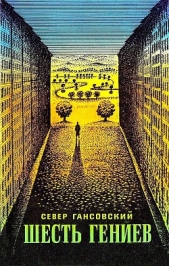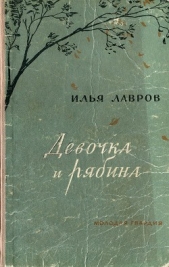По обе стороны океана. Записки зеваки. Саперлипопет

По обе стороны океана. Записки зеваки. Саперлипопет читать книгу онлайн
В книгу известного русского писателя, участника Великой Отечественной войны Виктора Платоновича Некрасова (1911–1987) вошли произведения, написанные на Родине («По обе стороны океана») и в годы вынужденной эмиграции («Записки зеваки», «Саперлипопет…»).
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Да, прежде всего будь самим собой, а потом уж проповедником. Впрочем, быть самим собой — не есть ли это лучшая проповедь?
Когда все эти размышления по поводу молодежи были уже написаны и вообще вся рукопись почти закончена, я попал в Москву на просмотр одного фильма, который невольно заставил меня опять вернуться к молодежи. Речь идет о картине Марлена Хуциева «Застава Ильича» (по выходе на экран она получила название «Мне двадцать лет»). Смотревший ее одновременно со мной Анджей Вайда, автор превосходного фильма «Пепел и алмаз», человек, которого смело можно отнести к первой десятке современных кинорежиссеров, после просмотра просто сказал, что подобного фильма он еще не видел (думаю, что Вайда на своем веку кое-что все-таки посмотрел) и что, если б была возможность, он тут же, сейчас же пошел бы еще раз его смотреть. А фильм, к слову сказать, идет два часа сорок пять минут.
Идея фильма, его режиссура, операторская работа (Маргарита Пилихина показала нам Москву, какую мы еще никогда не видели на экране, — настоящую, невыдуманную и такую поэтичную, что иногда от счастья узнавания навертываются слезы на глаза), удивительно правдивая, лишенная какого-либо напряжения игра актеров (и все это молодежь, ни разу не снимавшаяся!), диалоги — свободные, легкие, предельно живые (вместе с Хуциевым писал сценарий Геннадий Шпаликов) — все это, — хотя у меня и есть к режиссеру свои претензии, — все это настоящее, большое искусство — правдивое, искреннее, честное.
Все видели очень хороший американский фильм «Марти», не все видели «Любовь двадцатилетних» — пять киноновелл пяти разных режиссеров: французского, итальянского, немецкого, японского и польского. Оба фильма тоже о молодежи. В последнем превосходны две новеллы: первая — француза Трюффо (в ней те же два мальчика, что и в «400 ударов», но уже повзрослевшие, двадцатилетние), и последняя — Анджея Вайды, но о ней мне хочется поговорить в другой раз, не в этих очерках. Три остальные значительно слабее, хотя в каждой из них есть и своя достоверность, и своя правда.
Почему я вспомнил именно эти два фильма — «Марти» и «Любовь двадцатилетних»? Да потому, что оба они вместе с картиной Хуциева создают очень интересную и, как мне кажется, правдивую картину того, как и чем живут сегодняшние «двадцатилетние». В разных странах, на разных континентах.
Герой картины Трюффо очень трогательно и чисто влюбляется в девушку, и из этого в конце концов ничего не получается; у героя западнонемецкой новеллы вся сложность в том, что любимая девушка родила ему сына (он состоятельный журналист, она телефонистка); в итальянской новелле (поставил ее сын Росселини) молодой человек разрывается между двумя любовницами — бедной и богатой; в японской все дело кончается убийством героини героем; наконец, перенесясь в Америку, мы знакомимся с жизнью и следим за первой робкой любовью милого, обаятельного американского парня Марти.
Разные страны, разные ребята… Парижанин — служащий фирмы по изготовлению патефонных пластинок: немец — журналист; человек невыясненной профессии — итальянец; японский рабочий; владелец мясной лавки в Нью-Йорке; в хуциевском фильме — трое рабочих ребят. Всем им по двадцать, по двадцать с небольшим. И все, конечно, любят. Каждый по-своему. И всем им бывает весело, и всем иногда немного грустно (за исключением японца, он все время одержим — вообще эта новелла несколько выпадает из общего плана), и все они порой томятся (в «Марти» и в «Заставе Ильича» одинаково: «Ну, куда пойдем, ребята? Чем заняться?»), но только в одной — хуциевской — картине эти самые ребята позволяют себе спросить самих же себя: «Ну хорошо, а дальше что?»
Герои «Заставы Ильича» — закадычные друзья. Им весело друг с другом. И жизнь у них сложилась в общем неплохо — не так уж чтобы слишком хорошо, но и неплохо. Работают. Один на заводе, другой — в какой-то электровычислительной организации, третий — на строительстве. По вечерам после работы встречаются. Идут гулять. Бывает, и выпьют. В общем, дружат. И вот в этой как будто немного даже устоявшейся жизни появляются свои сложности. У Славки жена и ребенок, а хочется иногда «попарубковать», жена же вроде как подрезает молодые крылья, у Кольки неприятности с начальством — чуть в морду ему не заехал, Сергей неожиданно вдруг влюбляется в дочь некоего несимпатичного, зажравшегося высокопоставленного товарища. И возникают — не могут не возникнуть — вопросы. Как дальше? Как правильно? Как не ошибаться? И вообще, как жить?
Сергей задает этот вопрос — как жить? — своему отцу, погибшему на фронте отцу. Это одна из сильнейших сцен фильма. Отец и сын встречаются. Что это — сон, бред, фантазия, мечта, галлюцинация? Не знаю. Но они встречаются. Отец в пилотке, плащ-палатке, с автоматом на груди. И комната превращается вдруг в блиндаж, и спят вповалку солдаты, и коптит на столе артиллерийская гильза, и отец с сыном пьют. Друг за друга. И сын говорит отцу:
— Я хотел бы быть рядом с тобой в той атаке, когда тебя убили.
— Нет, — говорит отец, — зачем? Ты должен жить…
И сын тогда спрашивает:
— А как?
И отец в свою очередь спрашивает:
— Тебе сколько лет?
— Двадцать три.
— А мне двадцать один…
От этих слов мурашки бегут по спине…
Отец не дал ответа — он уходит, его ждут товарищи… И они идут, три солдата, три товарища, в плащ-палатках, с автоматами на груди по утренней сегодняшней Москве. Мимо проносится машина, а они идут, идут. Идут, как шли в начале картины три других солдата, солдаты революции, по улицам другой Москвы — Москвы семнадцатого года… И шаг их, размеренный, гулкий, сменяется другим шагом… Красная площадь. Смена караула. Мавзолей. И надпись: «Ленин».
В картине много других линий, других узлов, других столкновений, других сложностей, но все эти линии, узлы, столкновения и сложности сводятся к одному: как дальше?
А ответ один — так же, как и сейчас — в неустанных поисках ответа, поисках правильного пути, поисках правды. Пока ты ищешь, пока задаешь вопрос — себе, друзьям, отцу, на Красной площади, — ты жив. Кончаются вопросы — кончишься и ты. Безыдейное, безмятежное и безвопросное существование — это не жизнь.
Получилось что-то вроде рецензии на картину. Очень куцей, но все же рецензии. Я этого не хотел. Я хотел другого. Найти ответ: что же такое, в конце концов, наша молодежь? И чем она отличается от западной? Мне кажется, что Хуциеву в какой-то степени удалось все-таки дать ответ на этот вопрос, рассказав нам об этих трех молодых москвичах, о их дружбе, любви, тревогах и поисках. И мы поняли, что это ребята настоящие.
Я не сомневаюсь, что на Западе тоже есть такие ребята, не может этого не быть — и на Кубе, и в Америке, и в Италии, и во Франции, — но впервые они ворвались в искусство у нас. Думаю, что это все-таки кое-что да значит [9].
На третий день нашего пребывания в Америке в 9.30 утра с Пенсильванского вокзала на поезде, носившем название «The Executive», мы отправились в Вашингтон.
В Америке поезда имеют названия. На Пенсильванской железной дороге ходят поезда: «Президент», «Генерал», «Адмирал», «Золотой треугольник», «Южный ветер», «Патриот», «Эдисон». «Законодатель», «Полумесяц», «Пилигрим», «Виллиам Пенн», «Врата Ада» и еще с десяток других. Наш назывался «The Executive», слово трудно переводимое, по-русски звучащее как «руководитель», «управляющий», «администратор».
С детства я питаю страсть ко всему железнодорожному — поездам, паровозам, семафорам, мостам, вокзалам, даже к расписаниям. Паровоз для меня всегда был, да и остался существом одушевленным. В двенадцатилетнем возрасте, когда мы жили под Киевом, я десятки раз на день бегал на станцию встречаться с любимыми паровозами. Ходили тогда преимущественно пассажирские Н и Ну, иногда А и Б, а на единственном почтовом поезде Киев−Казатин красавец паровоз С типа «Прери», острогрудый, гордый, с низенькой трубой и электрическими фонарями (на остальных были керосиновые). Я знал характер, повадки и голоса каждого из них, и если по каким-либо причинам вечерний почтовый вез не С-513, а Б или Ну, я начинал тревожиться: не заболел ли мой любимец? Теперь этих паровозов нет, даже Су, потомок С, встречается только на самых второстепенных линиях [10].