Возвращаясь к себе
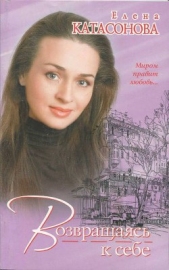
Возвращаясь к себе читать книгу онлайн
Книги Елены Катасоновой, признанного мастера русской прозы, пользуются популярностью не только в России, но и за рубежом, ибо все они — о любви, чувстве, неподвластном логике, времени, обстоятельствам.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— И что?
— Ничего. Врезали за английский четверку, и все дела: недобор одного балла.
— За английский? — ахнул Дима. — Да она его даже преподает! Как они умудрились ее засыпать?
— Они и не засыпали. Сказали про взнос — ах нет? — и поставили не «отлично», а «хорошо».
Дима уставился в пол невидящим взглядом. Бедная Ленча! Как она, наверное, расстроилась, может быть, даже плакала, и никого не было рядом. Нет, конечно, кто-то наверняка был — мать, Настя, но он-то, он… Дима сжал кулаки — надавать бы этим гадам по морде!
— Эй, друг, ты меня слышишь? — Костя хлопнул его по спине. — Очнись, салага! Она поступает в какой-то платный вуз — по истории культур, что ли…
— Но если в платный, — вышел из оцепенения Дима, — то могла бы…
— А вот не могла! — торжествующе воскликнул Костя. — Не захотела! И правильно сделала. Если все будем платить, так со всех будут драть — и чем дальше, тем больше. Молодец твоя Ленча!
Опять «твоя», все время «твоя». И больно, и счастливо это слышать.
— А почему «салага»? — с некоторым запозданием спросил Дима. — Почему ты меня так назвал?
— Идешь в армию — привыкай, — ответил бессердечный Костя. — Там много всего… «Осенний марафон» помнишь? «Андрей, много новых слов…»
И друзья засмеялись.
Дима вспомнил их разговор, усмехнулся. Ошибся Костик, ошибся: никто никого здесь салагой не называл. И дедовщины в их части не было. Может, потому, что приписаны они к флоту, хотя служат на твердой земле, бывая, правда, на кораблях, а на флоте от века другие традиции и не забыто еще понятие чести. А может, потому, что москвичей здесь довольно много — знания точных наук оказались необходимы, и многому учат дальше, особенно по радиолокации, — держатся москвичи вместе, и не один Дима силен в джиу-джитсу, в чем «деды» не без некоторой оторопи почти сразу и убедились.
— Мы думали, москвичи — те еще хлюпики, а вы — ничего…
Тем и кончилась «проверка на вшивость», которую и столкновением-то назвать было бы затруднительно.
Сегодня вечером, когда его сменят, он снова напишет Лене, и это будет наградой за все, щедрым подарком судьбы: подумать только, она ему отвечает! Его письма длинные, а ее короткие, он пишет о своих мыслях и чувствах, а она о делах и упорно молчит, когда задает он самые главные для него вопросы. Ну и пусть! Лишь бы раз в месяц он получал ее письма.
Дорогая Леночка, — писал он в самом первом письме. — Называю тебя так и боюсь: имею ли я право даже не писать, а считать тебя дорогим мне человеком? Но именно так я чувствую, и разве для этого какие-то нужны права?
Можно, я не буду описывать свою жизнь? Вдруг тебе это совершенно неинтересно, вдруг ты порвешь мое письмо, не читая, вдруг Настя тебе его вовсе не передаст? Я ведь пошлю письмо на адрес Кости, он отдаст его Насте, а уж она — тебе. Вот каким запутанным путем оно до тебя доберется. Я уж не говорю о расстоянии, разделяющем нас.
Огромная, что ни говори, наша с тобой страна, хоть и откусаны от нее там и сям тоже не самые маленькие куски. Но когда шел, погромыхивая на стыках, наш эшелон и мелькали леса, леса, леса, становясь все гуще, темнее и выше, а потом понеслось назад белое, безжизненное пространство, я впервые понял это по-настоящему. Даже не понял, почувствовал! Учили-учили нас географии, а ни черта мы толком не представляли. Действительно, лучше один раз увидеть…
Помнишь, как мы ходили на лыжах? Был март, яркое солнце, и ты позволила себя поцеловать. Летели от поезда назад снега, сам поезд, казалось, летел по снегу, а я вспоминал. Как я был счастлив тогда, ты даже не представляешь! Помнишь, я сказал тебе, что ты мое «alter ego», ты удивилась — «Разве ты знаешь латынь?» — и, гордясь собой, я скромно ответил: «На уровне присказок — да».
Ты, наверное, ждешь — раз уж я тебе написал — объяснения: почему я внезапно исчез и даже уехал, не попрощавшись. Отвечаю на твой невысказанный вопрос: от страха. Да-да, от самого настоящего страха. Здесь, в армии, вдали от дома, от нашего очень человечного, мягкого климата (все в сравнении, Леночка, и не стоило нам ворчать на него) я как-то враз повзрослел. Может быть, это случилось бы и дома, в Москве, но не думаю, чтобы так резко. Да, я повзрослел, многое понял, хотя кое-что смутно понимал даже в то сумбурное лето, когда все делалось, как во сне, какая-то сила толкала меня на поступки, о которых теперь вспоминаю с мучительной неловкостью и стыдом.
Писать, во всяком случае, для меня, легче, чем говорить, глядя тебе в глаза. Ты хоть знаешь, какие они красивые? Иногда ты спрашивала: «Что ты на меня уставился?» А это я тобой любовался, твоими прекрасными, как у княжны Марьи, глазами. Я все думаю о нас с тобой, это главное мое здесь занятие — конечно, кроме военных наук, которые, как ни странно, меня увлекают, — и чувствую, что становлюсь пусть не умнее, но толковее, что ли.
Ленча, родная, если бы ты знала, как меня тянуло к тебе! И я всегда тебя уважал — твой ум, эрудицию, культуру, до которой я тянулся, как мог, изо всех своих сил. Но если на свете есть Бог (как проснувшись, бросились все в религию; даже у нас в казарме висит распятие), то, уж конечно, вовсю резвится и развлекается дьявол — а может, его тоже надо теперь писать с большой буквы? Ну да черт с ним, с дьяволом!
К чему это я? К тому, что мое всегдашнее восхищение тобой, как ни странно, мешало к тебе приблизиться: я отваживался лишь на довольно робкие поцелуи. Что со мной творилось в то лето, страшно вспомнить! Да и жара была еще, как в аду. Все: труба зовет! Допишу завтра.
Дописываю. Перечитал и ужаснулся: разве можно о таком писать? Нужно остановиться. Умолкаю. Молчу. Добавлю только, что если бы ты поехала с нами в лес, вся моя жизнь могла бы сложиться иначе. А может быть, и твоя, хотя это допущение, наверное, слишком смело. Но от каких случайностей зависит жизнь человека…
Ответь мне, пожалуйста, очень тебя прошу! На что я надеюсь? На нашу с тобой похожесть. И если мне так тебя не хватает, то, может, и я по-прежнему как-то нужен тебе? Конечно, у тебя теперь другая жизнь, другие друзья и подруги, и ты, конечно, увлечена своим институтом — Костя сказал, что ты поступила, — ведь ты всегда увлекаешься тем, чем сейчас занята, но было же у нас с тобой нечто общее, касающееся только нас двоих, остановленное на полпути дьяволом, если он существует, хотя на него своей вины я не сваливаю, не думай.
Недавно прочитал непонятно каким образом попавшую в здешнюю библиотеку и никому здесь не нужную, но очень интересную книгу — новенькая совсем, на формуляре за четыре года всего две подписи, моя — третья. Так вот в ней сказано, что существует отдельная от души и ума жизнь тела, у которой свои потребности и права. Утверждение спорное, но автор — доктор наук, философ, может, он прав?
Догадываешься, к чему я клоню? Да, именно к этому — ты всегда понимала меня с полуслова. И как я печалюсь (не то слово, но не скорблю же?), что так нелепо все получилось! Прости, если можешь. Ты знаешь, за что. Никому, кроме тебя и родителей, не пишу. Даже Косте черкнул лишь несколько фраз: попросил, чтобы он уговорил Настю, если она заартачится, передать тебе это письмо.
Напиши мне хотя бы из милосердия: пишут же письма даже незнакомым солдатам? Я знаю, времени у тебя, как всегда, мало, так ты черкни пару строк, я не жду от тебя такого длинного письма, как мое, я, может, не умею писать тебе коротко: мне хочется все объяснить и, как прежде, хочется говорить с тобой, пусть даже эпистолярно. Наша ученая школа научила нас выражаться изысканно, и я ничего не забыл из уроков Геннадьевича. Ты знаешь, кстати, что они с Элизабет поженились? Вся школа на ушах стояла от зависти: девчонки завидовали Элизабет, а мы — Геннадьевичу — такую красавицу отхватил!
Никак не могу поставить точку. Стихи теперь не пишу, зато пишу прозу. Начал даже вести дневник: очень много всего интересного, нового, и умных мыслей — вагон. А может, мне это только кажется? Но я написал, представь себе, очерк в газету. Выйдет — пришлю. И знаешь, какой я взял себе псевдоним? «Еленин»… В редакции меня отговаривали — они-то не знают, в чем дело, — но я железно стоял на своем, потому что посвящаю этот очерк тебе, хотя предмета посвящения, конечно, он недостоин. Нет, вообще-то он интересный — взгляд человека со стороны на эти края. Газетчики удивились — «А мы ничего такого не замечали» — и сказали, что я молодец.


























