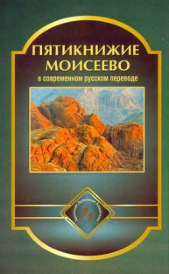Двадцатый век. Изгнанники

Двадцатый век. Изгнанники читать книгу онлайн
Триптих Анжела Вагенштайна «Пятикнижие Исааково», «Вдали от Толедо», «Прощай, Шанхай!» продолжает серию «Новый болгарский роман», в рамках которой в 2012 году уже вышли две книги. А. Вагенштайн создал эпическое повествование, сопоставимое с романами Гарсиа Маркеса «Сто лет одиночества» и Василия Гроссмана «Жизнь и судьба». Сквозная тема триптиха — судьба человека в пространстве XX столетия со всеми потрясениями, страданиями и потерями, которые оно принесло. Автор — практически ровесник века — сумел, тем не менее, сохранить в себе и передать своим героям веру, надежду и любовь.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Я рассказал это так, между прочим. Шмуэль, сейчас ведь шабат, да?
Бывший раввин чуть вздрогнул, вернувшись мыслями туда, где им полагалось быть.
— Конечно. А в чем дело? А… Кажется, я знаю, что ты имеешь в виду. Скажите мне, кому я могу передать ключи.
— Какие ключи? — спросила моя мама.
— Ключи от синагоги, — сердито объяснил дядя Хаймле. — Он закрыл ее на ключ, а вдобавок повесил амбарный замок!
— Там внутри есть серебряные вещи, — попытался оправдаться бен Давид.
— Не о серебряных вещах сейчас речь, а о золотых твоих устах, Шмуэль, — кротко вмешался в беседу мой отец. Явно, они уже не раз обсуждали эту тему, и сейчас мы стали свидетелями заговора, направленного на возвращение блудного раввина в лоно Яхве. — Мы желали бы здесь и сейчас услышать, кто завтра прочтет молитву в Бейт-а-Мидраше?
Бывший раввин долго молчал, затем бросил смущенный взгляд в сторону товарища Эстер Кац и, наконец, тихо, но твердо произнес:
— Во всяком случае, не я. Пусть читает, кто хочет. Не могу я быть вашим раввином, это нечестно!
— Так, так… — желчно парировал дядя Хаймле, — а председателем клуба атеистов — можешь? Это — честно, да? Что тебе стоит по совместительству, как это говорится по-советски, выполнять и обязанности раввина? Что тебе мешает, я тебя спрашиваю?
— У меня есть моральные соображения, найдите себе кого-нибудь другого, — упорствовал Шмуэль бен Давид.
— И кто поведет наше племя через пустыню? — мрачно спросил дядя Хаймле, и от его слов повеяло пустынным ветром хамсином, и на зубах у нас заскрипели песчинки.
— Нашим людям не нужен «кто-нибудь другой», им нужен ты, ребе Шмуэль, — сказал отец — именно ты, и никто другой, если ты понимаешь, о чем речь!
Несомненно, бен Давид понимал, ведь с ним говорили на идише, но лишь тихо выругался в ответ по-русски. Правда, тут же, как заблудшая овца, вновь вернувшаяся в кошару, перешел на родной язык:
— Да что вы все на меня набросились? А ты, Хаим, с каких пор стал таким хасидом, ты когда в последний раз заходил в синагогу? В день собственного обрезания? Пустыня! Ты посмотри на этого антисоветского Моисея! Веди их ты через пустыню, давай, заставь расступиться волны Красного моря!
— Не говори глупости, — спокойно одернула его Эстер Кац. Но бывший раввин уже разошелся вовсю:
— Да, да, Хаймле, иди ты! А у меня нет лишнего времени, чтобы терять его ради кучки набожных идиотов!
Эстер Кац предостерегающе положила ладонь на его руку:
— Так нельзя говорить!
Я молчал, потому что, честно говоря, был не из тех, кто получает колики, если не посетит в субботу синагогу. Но неожиданно в эту битву, которую я сравнил бы с теософским спором между саддукеями и талмудистами-книжниками, вмешался мой сын Иешуа. Он явно уже считал себя достойным вмешиваться в столь судьбоносный для колодячского еврейства диспут как человек, летавший на советском планере. Он сказал:
— Дядя Шмуэль прав! Тысячу раз прав! Вам приходилось слышать об опиуме для народа? Приходилось? Пора положить конец этому средневековому хасидскому тупоумию!
Наступило гробовое молчание, которое нарушила Сара, тихо приказав:
— Иешуа, немедленно выйди из-за стола! И выйди вон! Слышишь, что я тебе сказала?
Но он даже не пошевелился, упрямо сверля глазами свою тарелку.
— А что делать тем, кто верит в Того, кто есть? И верит семь раз и семь раз по семь? — спокойно спросил отец, постепенно повышая голос, в котором прозвучали отзвуки древних иерихонских труб и чувствовался гнев и сила наших прадедов. — Например, я верую в единственного и страшного Бога евреев Адоная, значит, я — идиот? Я тебя спрашиваю, Шмуэль! Или средневековый хасидский тупица? Я спрашиваю тебя, Иешуа!
Библейская молния не ударила, и куст не загорелся, но я не знаю, откуда взялось столько силы в старческой руке, швырнувшей в стену тарелку с борщом. По белой стене, как кровь, потекла красная от свеклы жидкость.
Мы с Сарой переглянулись, и она грустно и виновато опустила голову, будто извиняясь за слова, сказанные братом.
Бен Давид встал и глухо произнес:
— Простите. И ты меня, прости, Якоб. Я плохо выразился. Прошу прощения у всех вас. Завтра я открою синагогу и произнесу проповедь. А ты, Изя, прочтешь тот отрывок из Третьей книги Моисеевой — об истуканах. Простите.
Он почтительно поклонился и вышел. Изя, если ты помнишь — это я.
Эстер Кац смущенно сказала:
— Не сердитесь на него, прошу вас…
Наши люди, торжествуя, будто выиграли свою маленькую войну, пришли на следующий день в синагогу в непременных кипах и ритуальных белых молитвенных покрывалах — талесах — и субботняя служба состоялась. Раввин бен Давид пробормотал скороговоркой: «Барух ата Адонай Элохейну…» — благословен Ты, Господь Бог наш…
Не скажу, что в тот день наша синагога была переполнена как в досоветские времена — не хватало преимущественно молодежи, да и люди зрелые были, так сказать, не в полном комплекте. Некоторые, думаю, не пришли по убеждению или просто потому, что не испытывали такой духовной потребности, не исключаю я их отсутствия и по причинам прагматическим вроде предстоящего вступления в партию или из-за самого обычного страха, но вот относительно последнего у меня есть свое особое мнение — да простят меня просвещенные синагогальные старейшины — я считаю, что этим страхом напоследок просто спекулируют. Нельзя сказать, что советская власть питала слабость к церковным и религиозным обрядам, скорее наоборот, но времена ярого иконоборчества и беспощадной борьбы с религиозными традициями к тому времени уже отошли в прошлое, во всяком случае, у нас, в Колодяче. Может, где-то в Новосибирске или в Каракумах все обстояло иначе, ничего не смею утверждать, но знаю, что прибежищем страха является душа человека. Поэтому и не скрываю своего презрения к тем, кто сегодня утверждает, что они боялись ходить в храмы и молитвенные дома на встречу с Богом. Если бы я был Богом (ты ведь понимаешь, мой читатель, что это я просто к примеру, у меня нет подобных амбиций), то скорее простил бы язычников и благословил бы тех, кто не скрывает своего неверия в Бога, чем других, таящих веру в глубине души и страшащихся ее исповедовать, озирающихся по сторонам — нет ли поблизости какого-нибудь иного ока, кроме Ока Господнего. Или же вспоминающих обо мне лишь время от времени, на скорую руку откупаясь «на всякий случай» или монеткой, брошенной в церкви, или зажженной свечечкой, или рассеянным «амен» в синагоге, в то время как мысли их заняты новыми ботинками фабрики «Красный пролетарий» Менахема Розенбаума, полагающимся только ответственным партработникам. Так вот, таких трясогузок или религиозных лицемеров (простите за грубость), я отсылал бы прямиком в ад, если такое учреждение вообще существует.
Ты, наверно, улавливаешь в моих рассуждениях влияние или даже присутствие прямых цитат из высказываний ребе Шмуэля бен Давида, это действительно так — он научил меня сомневаться в вере и верить в сомнения: он научил меня смотреть небесным истинам прямо в глаза, и если Господь сконфуженно не отводил взгляда, понимать, что мы с ним думаем одинаково, по крайней мере, в данном конкретном случае. Что же касается земных истин, здесь ребе меня ничему не научил, потому что считал себя самого первоклассником, которому только предстоит вызубрить азбуку новой еще не написанной Торы с новой Книгой Моисеевой — Исходом, в которой будут описаны муки человечества в современной пустыне и прибытие этого человечества, после долгих скитаний и мытарств, в благословенный Ханаан будущего.
Я слегка отклонился от темы, но если ты забыл, на чем мы остановились, напомню: мы находились в синагоге Колодяча под Дрогобычем, ребе Шмуэль бен Давид или если тебе так больше нравится — гражданин Самуил Давидович Цвасман — только что прочел, точнее — пропел и пробормотал молитву, и пришел мой черед. Итак, согласно указаниям раввина, я стал перебирать, как эйлатские камни в ожерелье, слова Третьей книги Моисеевой: «…Не делайте себе идолов и истуканов, и столпов неставьте у себя, и камней с изображениями не кладите в земле вашей, чтобы кланяться пред ними; ибо Я — Господь, Бог ваш и нет другого кроме Меня…» и так далее, это все знают. Я читал с чувством и выражением, но мои мысли витали далеко отсюда: почему ребе избрал именно эту главу? И что он хотел этим сказать, на что намекнуть?