Парамон и Аполлинария
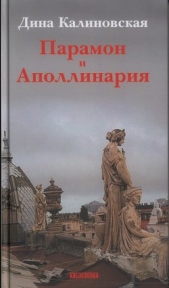
Парамон и Аполлинария читать книгу онлайн
Дину Калиновскую (1934–2008), российскую писательницу и драматурга, многие знают по знаменитому роману «О суббота!» («Текст», 2007). Она писала удивительные рассказы. «Один другого лучше, — отзывался о них Валентин Катаев. — Язык образный, емкий, точный, местами заставляющий вспоминать Лескова, а также тонкий, ненавязчивый юмор, пронизывающий все ее рассказы». В книгу вошли произведения Дины Калиновской 1970-1980-х годов, большая часть которых ранее не публиковалась: рассказы и монопьеса «Баллада о безрассудстве», совместно с В. Высоцким и С. Говорухиным позднее переработанная в киносценарий. Составитель и автор послесловия к книге — Л. Абрамова, актриса, хранитель архива Д. Калиновской.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Три дня не переставал ливень. Три дня хозяйка начищала алюминиевые кастрюли в кухне, обновляя свою жизнь их блеском, как делала каждый год по окончании сезона. Три дня Медеич с нижней террасы сквозь ливень смотрел в пространство, слушал дождь, слушал дом, пил чачу и меланхолически молчал, даже когда Харламов спускался к столу. Три дня Харламов рисовал, отрываясь только по необходимости, и весь пол его комнаты был устелен готовыми или полуготовыми рисунками.
Харламов спал мало, ел наспех, но рука двигалась легко, почти бессознательно, и он пребывал в том нагло-прекрасном состоянии триумфа, которое и было ему вознаграждением за пустоту, глухоту и тоску ожидания.
В десятке метров от его окна за вершинами сада, спускающегося по горе, было, он знал, море. Но теперь там начиналось небо. Гудящие падающие воды обрушивались в воду распростертую, а может быть, наоборот, разбухшая чаша моря вздымала, переполнившись, свои воды в небо, а небо вдыхало, всасывало струи, столбы воды со стоном, с гулом, чтобы сразу обрушить их вниз, а снизу навстречу уже взбухали и воздвигались, шипя, серые шумные хляби, и небо лилось ли в море, доливая его, море лилось ли в небо, переполняя его, в хаосе ливня все сливалось, стало смутным, водоросли заколыхались за стеклами окна, мимо глаз поплыли печальные рыбы, путая все представления о правильном.
И только на третий день, в самом конце дня вдруг из пропасти то ли неба, то ли моря глянул самодовольно горячий малиновый глаз, все осветил, все расставил по местам, определил, оценил, даже усмехнулся недвусмысленно жестоко и сгинул.
— Ага, это ты, — буркнул Харламов, приветствуя. Это была картина.
Почти не взволнованный, уже привыкший к тому, что одна удачная работа выталкивает следом другую, а затем наступает опустошение, Харламов, освещенный третьим, в дополнение к луне и солнцу, светилом, уже осознавал себя по-новому в жизни.
Он не разделял работу на работу и заказ или на поисковую работу над формой и многоответственную над содержанием. И его упрекали в легкомыслии, даже в беспринципности, а он не возражал. Он и был легкомыслен, ничего не поделаешь, это так.
Рисунки, в которых явление как бы кладется на ладонь и хладнокровно рассматривается, сменялись рисунками, где он, человек с сердцем, рвался к самой сердцевине явления и, сопереживая ему, забывал не только о лихих заботах, связанных с пространством и временем, но и о солидных, почтенных, относящихся к пластике формы гармонизации цвета и линии, даже о простой пропорциональности фигур забывал и вторгался лишь в самую суть явления, в его драму или в его элегию. Но вдруг случалось, что он становился на время монахом чистой формы, истово поклонялся самодовлеющей линии, страстно корпел над цветными объемами, создавая метафизические пространства — то веселые, шевелящиеся, то тоскливые, текучие. Он был легкомыслен, он непозволительно легко позволял своему воображению сталкивать недружественные точки зрения. А столкнув, азартно любовался, как в дикой мешанине несовместимого, в нагромождении эклектики зажигается робкая бледная звездочка новой художественной свободы, едва видная ему самому, но уже живая. В своем рискованном легкомыслии он никогда и ни для чего, просто ни в коем случае не отдалялся от неколебимого — человечности. Даже разыгранные на бумаге отвлеченные комбинации цветовых пятен под его рукой хитростью неподвластного ему самому внутреннего качества говорили, или смеялись, или плакали…
Но тем не менее легкомыслен. Он не защищался. Он не мог сказать о себе вслух — я гибок, у меня врожденная духовная гибкость, совсем не то, что называется гибкостью приспособления. Все дело в воображении. Но нескромно так про себя говорить, и он помалкивал. Даже с друзьями.
Берег Ясности. Хаос и свет. Уже можно было ждать названия картины.
Он деловито обдумывал, что наконец выкрасит белым стены мастерской, закажет подрамник, проформалинит холст, для грунта возьмет хранимый для особых случаев клей из рыбьих пузырей и положит его, постепенно наслаивая, как делали старые мастера Европы.
— Три метра на пять, не меньше… Лучше больше… Четыре на шесть. А что? — говорил он вслух.
Перо Харламов привез с собой немягкое, оно скрипело, даже рвало бумагу, но штрихи получались живые, с неровным, неожиданным краем. Иногда отлетала от пера клякса или даже веер клякс, и тогда рисунок планировал на пол для подсыхания. Сухую кляксу округло согнутой бритвочкой можно было потом поддеть, как крошечную монетку. Из кляксы также можно было что-нибудь сделать более или менее уместное — ось, например, а к ней колесо, а к нему лафет, а к лафету пушку. Или мудрый глаз, а вокруг глаза — епископа. Либо пуговицу, а к ней мундир, а к нему гвардейца…
С упорством дятла, долбящего одно и то же дерево, он изо дня в день два месяца подряд не позволял себе даже ненадолго отвлечься и, почти ничего не рисуя, уставал непомерно. Заплывая далеко в море и обсуждая с Медеичем градусы чачи, здороваясь или прощаясь с множеством промелькнувших постояльцев и постоялиц, слушая музыку морского прибоя или молчание большой скалы — он засыпал, работая, и просыпался работающим. А вот сейчас, когда работа как бы сама пошла, как бы и без его участия, он, как бы только играя, резвился перышком, когда картина, его новая будущая картина, неведомой птицей вздохнувшая над ним и улетевшая, оставила его в своем празднично-жестоком плену, он позволял себе поразмышлять свободно. О том о сем.
«Последовательность!» — думал Харламов, рисуя.
Он как бы забрасывал шарик в коробочку с лунками и гонял его до тех пор, пока тот не вкатывался в углубление, и тогда он придвигал к себе тетрадь и что-нибудь записывал.
«У греков не было бога последовательности, и это удивительно. Последовательно солнце — то карающее, то ласкающее, последователен цикл зимы и лета, цветения и увядания, дня и ночи, и так далее, и так повсюду. Последователен Медеич, соорудивший дом и теперь качающий доход по мере возможности…»
«Природа!» — Харламов брал чистый лист для рисунка и разгонял в коробочке следующий шарик.
«Человек, — писал он немного погодя, — так храбро преуспевающий в извращении природы, по старинке ахает и умиляется красотой гор и моря, степи и леса. А красоты никакой нет и не может быть… Есть сухая данность материи, бездушный лик бытия. Красота природы — атавизм, термин, выдуманный от страха перед стихиями, термин зависимости и заискивания: ты хорошая, ты красивая, я преклоняюсь перед тобой — не погуби!
И эстетика наша — магическое заклинание великого управляющего равновесием в природе, скорее даже смиренное, бессильное, самогипнотизирующее. Хвала звезде, хвала росинке и лютику… Искусство давно уже тяготеет к познанию, а все еще хочется пошаманить: хвала снежной вершине, так как боюсь обвалов; хвала морю под солнцем — моя лодочка слаба; пою грозу — она прошла стороною; пою орла и червя — моих талантливых братьев… Молюсь твоим волосам, твоим ногам, твоему взгляду! На поляне есть ты, твои волосы душистей цветов, и твой медовый взгляд мне до смерти необходим. И я молюсь бессильно искусством своим о стабильности, пусть все будет как есть… Самообман».
Так, беспечно философствуя, Харламов радовался, что дело его двинулось и полученного по договору аванса вполне хватило, чтобы работу закончить здесь, в этом раю, в душной днем и холодной ночью надстройке, за шатким, неудобным столиком, перед маленьким оконцем, из которого был виден великолепный эвкалипт, и крутая гора, и мыс за желтой излучиной пляжа, и во всей своей силе и щедрости море…
— Что же вы видите?
— Я вижу паука, он спускается к вашим волосам, не шевелитесь.
— Я боюсь пауков!
— Оборвать его жизнь?
— Не вздумайте его тронуть!
— Как я посмею! Ведь мы похожи с ним, мы оба робеем дотронуться до вас. Ну вот, я так и предполагал, он лезет по своей веревке вверх.
Мандарины оказались несъедобными, твердая корка не отслаивалась, вата под коркой была еще плотной и влажной, мякоть кислее лимона.


























