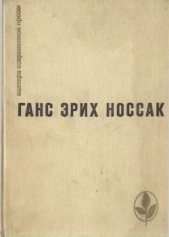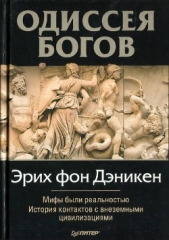Избранное

Избранное читать книгу онлайн
В книге избранных произведений выдающегося художника слова Югославии, сделана попытка показать характерное для его творчества многообразие жанров, богатство его палитры. Она включает в себя повесть-шарж «Большой Мак», роман «Сети», а также рассказы. Творческую манеру Э. Коша отличает живость, остроумие, отточенность формы, пристальное внимание к проблемам современной жизни.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Вам кого? — спросила она.
— Преподавателя Новака! — Мать учтиво поклонилась. — Он дома?
— А что бы вы хотели?
— Мы бы хотели его повидать. Мы были хорошо знакомы до войны. Вы, может быть… — Мать хотела что-то спросить, но женщина пожала плечами.
— Подождите, — сказала она, притворила дверь и ушла по коридору, слышно было, как она сказала: — Папа… тебя спрашивают. Говорят, что вы были знакомы до войны.
Ответа мы не слышали, но женщина вернулась.
— Войдите! — Она указала в конец коридора, а сама открыла первую дверь слева и исчезла за ней.
Мы вошли. По стенам коридора развешаны виды Мостара в рамках, две-три семейные фотографии и какие-то украшения из соломы. У окна столик с комнатными цветами; в комнате, обставленной на довоенный австрийско-чиновничий манер, массивный коричневый стол с шишковатыми, словно подагрическими, ножками, стулья со спинками и сиденьями из искусственной кожи, стенные часы с маятником, буфет с зеркалом и стеклянными дверцами, за которыми виднелись тарелки и стаканы, этажерка для книг и старинный диван с высокой спинкой, обитый потертым красным плюшем.
За столом лицом к нам сидел седоватый человек с коротко остриженными волосами, в голубой рубашке, распахнутой на худой шее, на которой осталась зеленоватая вдавлинка от запонки. Брюки, подтянутые к самой груди, придерживались помочами, на ногах были шлепанцы, — вообще он производил впечатление человека, только что проснувшегося. Мы, должно быть, оторвали его от приятного занятия — протирания очков и прочих приготовлений к послеполуденному чтению газеты, уже развернутой на столе.
Он встал. Очки и глубокие морщины по обеим сторонам рта придавали его лицу что-то строгое, холодное и педантичное. Он выжидательно смотрел на мать и на меня.
— Вы нас не узнаете? — спросила мать, а я от смущения по-ребячьи жался к ней.
Человек с лицом учителя, продолжая смотреть на нас, с недоумением качнул головой.
— Не припомните? — спросила мать, улыбаясь с некоторой таинственностью.
Учитель ступил на шаг ближе, чтобы лучше нас видеть.
— Простите, — сказал он. — Что-то не припоминаю…
— Гросс… — назвала мать нашу фамилию, точно выбросила на стол козырную карту. — Жена землемера Гросса с сыном.
Но это не произвело никакого впечатления, и на лице учителя ничего не отразилось. Он только моргнул близорукими глазами и, поскольку мы уже некоторое время стояли друг против друга, спохватился наконец и без большой охоты указал нам на стулья.
— Пожалуйста, прошу вас… Так что бы вы хотели, сударыня? — спросил он, когда мы уселись, и сложил руки перед собой на столе, как, видимо, делал в классе, ожидая ответа ученика.
— Мы жили здесь перед войной… в тринадцатом и четырнадцатом годах, — продолжала мать уже несколько менее уверенно, торопясь, словно опасаясь, что ее оборвут. — Мы жили на Хамзичевой улице. Ближайшие соседи, так сказать: вы, мы, инженер Янежич, судьи Дидушицкий и Файфер, семьи Ружич и Радулович. У вас тогда еще не было квартиры, ваша супруга с детьми еще не приехала, и вы, кажется, снимали комнату у какой-то вдовы…
— Да, — сказал он.
— Вы с моим мужем ходили ловить рыбу, играли в саду, под сливами, в преферанс. И в теннис мы играли на офицерском корте… Ах! — вздохнула мать. — Было так чудесно. Жилось без забот, и на все хватало времени. Вспоминаете?..
— Да… конечно… Вспоминаю, — сказал учитель, но я не был уверен, что это в самом деле так.
Наступила короткая пауза.
— А теперь вы снова переехали в Мостар? — спросил учитель приличия ради.
— Нет! — ответила мать и посмотрела на канарейку, которая, щебеча, прыгала на окне в клетке. — Мы живем в Сараеве.
— Приехали навестить родственников?
— Друзей!.. Друзей и знакомых, — пояснила мать. Она пыталась оживить разговор и от волнения принялась щипать бахрому на скатерти. — Чтобы вспомнить старину, — продолжала она. — Двадцать лет прошло с тех пор. Я давно хотела посетить город, где провела свою молодость и лучшие годы жизни. Мы возвращаемся с моря и приехали только сегодня утром. — Тут мать обернулась ко мне, взгляд учителя последовал за нею. — Забыла вам представить, — сказала мать. — Это мой сын Никола. Студент.
— Вот как! Прекрасно! — заметил учитель. — Что он изучает?
— Право, — ответила мать. — В теперешние времена это самое разумное. Знаете… утром мы были в Цернице. Боже, как все изменилось! Все запущено, все пропадает, люди разъехались, поселились какие-то незнакомые…
— Да, сударыня, — согласился учитель, и снова воцарилась тягостная тишина. Он мучительно искал, что сказать, а мать молчала, не зная, как продолжить разговор. Из другой комнаты выглянула женщина, открывшая нам дверь, и посмотрела на нас, как бы желая убедиться, думаем ли мы уходить. Затем она снова появилась со стаканом воды и каким-то лекарством на блюдечке и поставила все это на стол перед учителем, а тот, взглянув на часы, сказал: «Извините!», высыпал порошок себе на язык и запил водой. В комнату вошел белокурый юноша в очках, немецкого типа, снял со спинки стула пальто, надел его и вышел, не глядя на нас.
— Дочь и младший сын, — пояснил нам учитель.
— А старший? — спросила мать.
— В Загребе… уже служит, — ответил он. — Значит, вас опять переместили? — рассеянно спросил он, точно забыл или прослушал то, что ему рассказывала мать, и опять посмотрел на часы, лежавшие на столе.
Он не мог понять, что привело нас в Мостар. Я видел, мы ему мешаем. Снова наступила пауза, и, прежде чем мать раскрыла рот, я дернул ее за рукав и поднялся. То же сделала и она, а за нею учитель.
— К сожалению, мы должны идти, — сказала мать. — Завтра мы уезжаем, а у нас есть еще кое-какие дела.
Учитель кивнул: он нас не задерживал.
— Так до свидания! — продолжала мать. — Я рада, что нашла хоть одного знакомого.
— До свидания, сударыня! Мне было очень приятно… — сказал учитель, распахнул дверь и крикнул: — Елена, проводи госпожу!
Мы еще шли по коридору, а он уже вернулся к столу, сел и взялся за газету; в коридоре нас встретила его тощая дочь, повела к двери и открыла ее, не говоря ни слова.
— До свидания! — сказали мы.
— До свидания! — ответила она, закрыла дверь, и мы спустились на улицу.
Было около шести часов; жара немного спала. Мать, погруженная в мысли, молчала и шла, глядя прямо перед собой.
— Он очень изменился… И я бы его не узнала. В конце концов это и не удивительно после двадцати лет… — проговорила она как бы про себя, но достаточно внятно, чтобы я слышал; так как я не поддержал разговора, добавила: — Жаль! — И мы молча дошли до гостиницы.
Мы устали. Поднялись в номер, но не нашли, чем заняться, спустились вниз, посидели в кафе, выпили пива, я посмотрел несколько старых номеров сараевской газеты; потом мы снова вышли к реке, но тут смотреть было не на что: вода в реке сделалась пепельно-зеленой. Мы вернулись в гостиницу, стало скучно, меня опять разобрала досада.
— Ух! — вздохнул я. — До чего же скучный город!
А позже, когда мы сидели в душном, плохо освещенном ресторане, склонившись над тарелками с гуляшом, стоявшими на несвежей скатерти, я сказал:
— Вот уж поистине прекрасная гостиница, — и не притронулся к ужину; да и мать очень скоро отодвинула свою тарелку, молча встала, и мы сразу же поднялись в номер, чтобы лечь спать. А в номере, раздеваясь в темноте — света мы не зажигали, боясь комаров, — я опять не удержался, чтобы не заметить:
— Нечего сказать, стоило приезжать сюда, тратить зря время! — Мать молча выслушала и это; она сняла шляпу, и я при свете, проникавшем через окно, увидел, как сморщилось ее лицо и затряслись плечи.
Она плакала. Тихо, сидя на кровати. А потом, всхлипывая, принялась упрекать и бранить меня.
— Ты неблагодарный! — говорила она, пока я укладывался на диване. — Тебе трудно было пожертвовать одним-единственным днем… А чем я жертвовала ради тебя! Лучшими годами молодости, как раз здесь… в Мостаре. А ты… из-за одного обеда, из-за одного-единственного дня!..