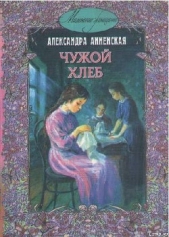Хлеб той зимы

Хлеб той зимы читать книгу онлайн
Автобиографическая повесть современной петербургской писательницы Эллы Фоняковой посвящена ленинградской блокаде, с которой совпало детство автора. Написанный ярким, простым и сочным языком на основе собственных воспоминаний «Хлеб той зимы» — это честный рассказ без приукрашиваний и нагнетания кошмаров. Книга переведена на многие языки, в том числе вышла в Германии и США.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Сенсация! Ленинград спасен!
…Хвойный настой мы пьем литрами. Он освежает, взбадривает. И — о чудо! — у мамы исчезают на ногах темные цинготные пятна, а тетя Соня перестает стонать по ночам от рези в желудке. И папа уже не утверждает столь категорично, что мы все передохнем, как мухи.
Андрей Андроныч
Галя приходит из своей пошивочной сама не своя, какая-то растревоженная, возбужденная. Она машинально, без обычной ревностной домовитости, подметает комнату, выносит во двор ведра, смахивает с подоконников пыль. На мои вопросы откликается в замедленном темпе, переспросив предварительно:
— А? Что ты сказала? Я не слышала…
Несколько раз она, встав на маленькую скамеечку, придирчиво рассматривает свое отражение в закопченном стекле, которым увенчан наш камин. Зеркало расположено так высоко, что в него без усилий может заглянуть только папа. Впрочем, сейчас никто из нас в зеркале и не нуждается: мало радости убеждаться в том, что ты похож на Кащея Бессмертного.
Часов около восьми Галино беспокойство достигает предела. Она поминутно спрашивает, который час. На месте ей не сидится — все мерещится стук в двери. И она то и дело вылетает в прихожую с криком:
— Кто? Кто там?!
— Да что с тобой сегодня творится, девочка? — не выдерживает в конце концов тетя Соня.
Галя, секунду поколебавшись, обнимает тетю Соню и что-то горячо шепчет ей в затылок. Тетка широко улыбается, в то же время посылая маме непонятные сигналы глазами.
Однако мама все прекрасно понимает. Она достает из шкафа чистую салфетку и стелет ее на стол поверх клеенки. Ставит на «буржуйку» чайник.
Кристаллики сахарина — сахар почти не выдают по карточкам, и мы пользуемся «химией», — ссыпает из бумажного фунтика в стеклянную солонку. Мама во всем остается верной себе — она любит красоту и порядок…
Галя опять нервно метнулась к двери и исчезла за нею. Но на сей раз она возвращается не одна. На пороге возникает рослая фигура в солдатской шинели.
За ее плечами светится Галино взволнованное личико.
— Это мой знакомый… Ольга Сергеевна, тетя Соня, знакомьтесь… Вы не знакомы?.. — сбивчиво лепечет Галя.
Боец держится, наоборот, спокойно и с большим достоинством. Он степенно обходит всех присутствующих, не исключая и меня, и каждому протягивает просторную красную ладонь со словами:
— Добрый вечер. Андрей Андроныч… Добрый вечер. Андрей Андроныч…
Добрый вечер, Андрей Андроныч…
— Проходите, Андрей Андроныч, присаживайтесь, отдохните, — хлопочет мама, пряча улыбку. — Вот табуретка. Вот кушетка.
Но Андрей Андроныч присаживаться не спешит. Он водружает на стол свой защитного цвета вещмешок и начинает обстоятельно развязывать его. Я во все глаза рассматриваю Галиного знакомого. Ему на вид не больше лет, чем Гале.
Он светловолос. У него небольшие, глубоко спрятанные за крутыми скулами, зеленые глаза, широконький розовый нос и очень определенные, крупные губы.
«Симпатичный, — думаю я. — И добрый, наверное». Тем временем Андрей Андроныч выкладывает на стол… Господи, что он выкладывает! Целую банку настоящих мясных консервов! Брусочек перламутрового сала! Три толстых, медвежьего цвета солдатских сухаря, какой-то узенький, длинный мешочек, перевязанный сверху шнурком, и пачку махорки! Мы потрясены. Галя смотрит на своего знакомого с немым восхищением. Сам же Андрей Андроныч совершенно равнодушно рассматривает камин, так, как будто он здесь ни при чем.
— А что в мешочке? — нарушаю я минуту благоговейной тишины. Я понимаю, что вопрос бестактен, неуместен, но удержаться не могу. Это выше моих сил.
Андрей Андроныч, ничего не ответив, развязывает шнурок и показывает «товар лицом». Это сахар!
— Есть куда высыпать? — деловито спрашивает гость. — А то мешочек из-под пороха, пригодится еще.
— Ну конечно, конечно, вот, пожалуйста, — мама подвигает Андрею Андронычу поллитровую баночку. — Давайте, я мешочек быстренько простирну и высушу…
Когда возвращаются домой папа и дядя Коля, у нас пир идет горой. В комнате витает дивный дух разогретой говяжьей тушонки. Мы грызем сухари, пьем сладкий чай. А Галин знакомый рассказывает солидным баском фронтовые истории — о том, как в разведку ходили и чуть «языка» не взяли, о каком-то снайпере Кулебяке, который свою снайперскую винтовку называет «пичужкой», и этой «пичужки» немцы ужасно боятся. Потому что Кулебяка уже укокошил двести гадов.
— А вы немцев тоже укокашивали? — кровожадно спрашиваю я.
— Приходилось.
— Сколько штук?
— Не считал, — сухо отвечает Андрей Андроныч. Мама, укоризненно посмотрев на меня, пытается переменить разговор.
Жаль!
Но допрос продолжает папа. Правда, его интересуют вещи иных масштабов: почему до сих пор нет второго фронта? Что себе думает английский премьер Черчилль? Когда снимут блокаду? Сколько вообще может протянуться война? На такие вопросы, пожалуй, не ответил бы сейчас и генерал. Но наш боец, глазом не моргнув, дает исчерпывающие пояснения. На второй фронт нечего особенно уповать — на них, сволочей-империалистов, надежда плохая. Черчилль думает только о том, чтобы нажиться на войне. Блокаду снимут скоро. Немцев тоже разобьем не сегодня, так завтра. Потому что они «ума не лишены, но ведь и мы не лишены тоже».
— Ай да боец! — восторгается папа. — С такими нигде не пропадешь!
Галя, судя по ее сияющим глазам, вполне разделяет папино мнение.
— Пара, — делает заключение тетя Соня после ухода гостя. — Молодчина, Галка, какого парня завлекла! А?
… Через месяц он вновь прибыл к нам со своим вещмешком и, выгрузив из него фронтовые гостинцы, затолкал туда немногочисленные Галины пожитки.
И оба они простились с нами.
— Пусть у матери моей поживет, к семье привыкнет, — объяснил Андрей Андроныч. — Получу трехдневный отпуск — распишемся…
В столовке
Из тех продуктов, что мы получаем по карточкам, нет никакого смысла готовить самим. Мы убеждаемся в этом после неоднократных неудачных опытов.
Как ни верти, а дома, кроме мучной болтанки да жиденькой горькой каши из пшена-сечки, ничего не придумаешь. Да еще эти бесконечные кулечки и дележки!
Надо окончательно и бесповоротно переходить на столовское питание, тем более, что мы отчасти уже им пользуемся: я обедаю в школе, а мама во время болезни получала «усиленное».
Раскрепление по столовым — дело запутанное и сложное. Почему-то все мы «приписываемся» в разных местах. Мама — на Загородном проспекте, в помещении бывшего ресторана. Там огромный, с высоченными потолками, зал и роскошнейшая, резного дуба, буфетная стойка. Она разукрашена барельефами, изображающими связки дичи, блюда с фруктами. За этой стойкой восседает закутанная в ватник кассирша и целый день выбивает метровой длины ленты талонов. Папа столуется где-то у себя на работе. Я по-прежнему обедаю в школе, а завтракаю и ужинаю в маленькой забегаловке, где раньше, видимо, была сосисочная или блинная. Там тесно, парно, и долго надо ждать, когда придет официантка и возьмет талоны. Дядя Коля прикрепился к столовой на Разъезжей улице. Случается так, что взрослые днем очень заняты и не успевают приехать в свои столовки поесть. Тогда мне поручается взять судочки, еще накануне выбитые талоны, обойти все столовые и забрать домой обеды. Я не люблю этим заниматься. Приходится долго высиживать в ожидании — самообслуживания тогда еще не было, сливать в судочки супы, желая и не решаясь отхлебнуть немного теплого варева, потом, по дороге домой, трястись от страха, что споткнусь, пролью, уроню, что кто-нибудь может просто отобрать у меня обеды. Ведь судочки на виду, их трудно спрятать в сумке.
И еще я не люблю ходить в столовки по другой причине: я часто становлюсь там свидетельницей человеческого унижения. И страдаю от этого, хотя еще мала и многого в жизни не понимаю. Вот сидит за столиком дама — в дорогой шубке, с накрашенными губами. Она долго выскребает тарелку ложкой, потом, приблизив к ней красивое, бледное лицо, никого не стесняясь, по-собачьи, сосредоточенно, вылизывает последние остатки каши… Высокая старуха с седыми букольками над морщинистым лбом бродит между столов, попрошайничая: