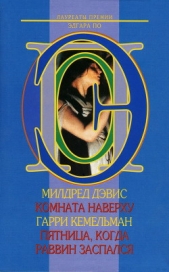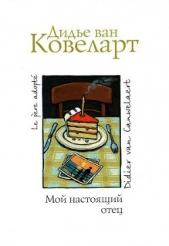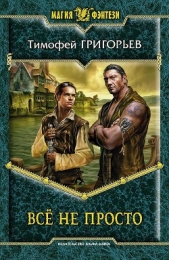Одиночество вещей

Одиночество вещей читать книгу онлайн
Романы «Геополитический романс» и «Одиночество вещей», вошедшие в настоящую книгу, исполнены поистине роковых страстей. В них, пожалуй, впервые в российской прозе столь ярко и художественно воплощены энергия и страсть, высвободившиеся в результате слома одной исторической эпохи и мучительного рождения новой. Главный герой «Одиночества вещей» — подросток, наделённый даром Провидения. Путешествуя по сегодняшней России, встречая самых разных людей, он оказывается в совершенно фантастических, детективных ситуациях, будь то попытка военного путча, расследование дела об убийстве или намерение построить царство Божие в отдельно взятой деревне. Всё вышесказанное можно отнести и к «Геополитическому романсу». Это романы-мистерии, романы-детективы, романы-фантастика. Предпринятое автором исследование «загадочной русской души» держит читателя в неослабевающем напряжении с первой до последней страницы. По мнению литературных критиков, «Геополитический романс» и «Одиночество вещей» — «настоящие русские триллеры, способные взволновать читателей гораздо сильнее дешёвых западных поделок».
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Отца не обрадовало, что дядя Петя укрепил стеллаж. «Ну вот, — помнится, вздохнул он, — теперь мне не умереть красиво. Я бы мог стать святым мучеником во славу марксизма, а ты, — ткнул он пальцем в дядю Петю, — всё испортил». Леон хотел было возразить, что чего-чего, а мучеников во славу марксизма было предостаточно, но подумал, что отец имеет в виду иное, не безвинное и, следовательно, не святое, а сознательное и, следовательно, святое мученичество. Безвинное мученичество не в счёт. Это воздух марксизма. Когда немарксисты перестают безвинно мучиться, задыхающимся марксистам являются странные мысли о падающих на голову стеллажах.
Узнав, что дядя Петя решил податься в фермеры-арендаторы, вспомнив, что у него золотые руки, что трезвый он работает как заведённый, Леон подумал, что, укрепив над головой отца первый, дядя Петя вознамерился укрепить — уже над головой страны — второй стеллаж. Кормить страну, предварительно не очистив её от налипшего коричневого дерьма, не утишив примочками чудовищных синяков, не подсушив мокнущих под вишнёвой коркой ран — было всё равно что кормить странного, вечно голодного больного, который чем ему хуже, тем ненасытнее до жратвы и воровства, тем злее ненавидит того, кто его кормит, тем изощрённее ему вредит, мешает себя кормить. То есть дядя Петя собирался укреплять не больного, но болезнь, играть по правилам, которые безумный больной установил для себя и для врачей, а это означало не излечение, но продление голодного сумасшествия. Съедено-то всё будет со свистом, да что толку? Дядя Петя думал (если думал), что вступает на дорогу милосердного сельскохозяйственного труда, тогда как в действительности то была дорога продолжения страданий.
Леон перелистывал «Философский энциклопедический словарь» и как бы ощущал лицом мертвящий, с запашком дерьма ветер, сквозящий сквозь стены от литого стеллажа в кабинете отца к его столу, на котором лежал этот самый «философский энциклопедический словарь». Мёртвый ветер каждую страницу припорашивал смесью коричневого, синего, вишнёвого, что давало в смешении цветов однозначную серость, в смешении же качеств — дерьмо, поскольку дерьмо имеет тенденцию преобладать в соревновании качеств. Только над смертью — нет. Чёрный пол-потовский цвет посильнее серого марксистского. Леон почему-то читал про Пифагора. Ему казалось, марксистский ветер не прошьётся сквозь тысячелетия до чистой эгейской сини, белого аттического солнца, мраморных колонн, чёрно-зелёных оливковых рощ и виноградников, горных пастбищ, свободных людей, с удовольствием владевших рабами. Но он был тут как тут, костлявой Хароновой рукой хватающий Пифагора за хитон, ошеломляющим порывом, как птицу в печную трубу, вгоняющий его учение в десять пар онтологических принципов: предел — беспредельное, нечет — чёт, одно — множество, право — лево, мужское — женское, покоящееся — движущееся, прямое — кривое, свет — тьма, добро — зло, квадрат — прямоугольник.
Тем самым превращая его в абсурд, так как пары онтологических принципов можно было выстраивать бесконечно: вода — вино, мир — война, любовь — ненависть, трусость — храбрость, правда — ложь и так далее. Пока не надоест. Тем самым выдавая произвольно выбранные внутри вечной бесконечности Пифагором вехи — он сыпал их, как корм птицам, — за конечные пограничные столбы на территории античного познания, за которыми будто бы пустота несовершенства. Как и за всем, что не есть научный коммунизм. Марксистский ветер весьма тяготел к конечности, так называемой эсхатологичности, к пограничным столбам на территориях любого познания, запретным зонам, желательно под шлагбаумами, а ещё лучше под колючей проволокой с пропущенным током.
Но Леон, хоть его родители и были преподавателями научного коммунизма, учёными-марксистами, мать кандидатом, отец доктором философских наук, доподлинно знал, что если что в мире и конечно, так это прежде всего сам научный коммунизм. Конечен именно в силу своих посягательств на бесконечность. Конечно всё. Но что посягает на вечность — вдвойне и быстрее. Он бы мог утвердиться в конечном мире: в термитнике, улье, осином гнезде или муравейнике. Но в том-то и беда (для коммунизма) и счастье (для жизни), что мир бесконечен. Вот только что там — за концом коммунизма? Впрямь ли счастье?
С некоторых пор Леон сомневался.
Ведь каждому ясно, что между пределом и беспредельным во всём своём многообразии помещается сущее, между чётом и нечетом бесчисленное множество дробей, между право и лево прямо, между мужчиной и женщиной гермафродит, между покоящимся и движущимся трогающееся с места, между прямым и кривым спиральное, между светом и тьмой знаменитое сфумато Леонардо да Винчи, между добром и злом исполнение приказа, между квадратом и прямоугольником параллелепипед. Так же как между водой и вином пиво (применительно к нашей действительности — бражка), между миром и войной прозябание (применительно к нашей действительности — застой, стремительно развивающийся от относительного благополучия к чистой нищете), между правдой и ложью полуправда и полуложь, между трусостью и храбростью ничтожество. Так же как пауза между словом и молчанием. Как одичание, голод, хаос и хамство между научным коммунизмом и естественными формами человеческого существования, между обществом коммунистическим и посткоммунистическим. Как что-то тягостно-тревожное, неизвестное человеку, между жизнью и смертью. Вот этого неподдающегося осмыслению провала и боялся Леон. Ибо в нём, как и в прочих Пифагоровых онтологических принципах, заключалась бесконечность. Но не та, которую хотелось приветствовать после необъяснимого (с чего бы?) самоуничтожения коммунизма. Да, Пифагор, если отвлечься от того, что он владел рабами, являлся последовательным античным антикоммунистом. Как подавляющее большинство живущих до и после него здравомыслящих людей. Однако зло, вносимое в мир коммунизмом, было совершенно непропорционально количеству коммунистов в мире. В этом заключалась первая тайна. Вторая — в том, что самоуничтожиться коммунизм мог только… во имя ещё большего зла. И третья — что высказать вслух эту самую антикоммунистическую из всех антикоммунистических мыслей — означало навлечь на себя славу… коммуниста.
Так казалось Леону, перелистывающему от скуки «Философский энциклопедический словарь».
Иногда его томило это: Леон.
Какими же придурками надо быть, злился он, что при фамилии Леонтьев назвать сына Леонидом! Как ни дёргайся, с таким именем, такой фамилией «Леон» неизбежен.
Мать, отец и, естественно, сам Леон были русскими.
Но кроме того, что мать и отец были русскими, они были преподавателями научного коммунизма, коммунистами и, следовательно, интернационалистами. Их не могла смутить такая мелочь, как Леон, равно как: Рафик, Гюнтер, Хасан, Василь или Абдужапар.
Леон задавался вопросом, кто они больше: русские или интернационалисты? Родительский интернационализм представлялся ему в цветах и запахах обложек основоположников. Это отбивало охоту искать ответ, так как он был очевиден и это был не тот ответ, которого хотелось.
Отец и мать до недавнего времени частенько выступали в печати со статьями, написанными порознь и совместно, в соавторстве. Леон обратил внимание, что когда совместно, то было меньше страха перед абсурдом, больше какого-то победительного презрения к позору. Последним совместным родительским трудом была книга о новой общности людей — советском народе, истинными представителями которого отец и мать, вероятно, себя считали.
Сейчас новая общность предстала никогда не бывшей. В некорыстное существование бывших советских интернационалистов, а ныне самых что ни на есть националистов никто не верил. Лишь русским интернационалистам эта метаморфоза, как, впрочем, и любая другая метаморфоза, не далась. Сделаться одними только русскими родителям было странно, непривычно и… мелковато. Отец и мать остались коммунистами, говорящими на русском языке, до поры помалкивающими об интернационализме, то есть самыми жалкими и ничтожными из всех возможных разновидностей коммунистов.