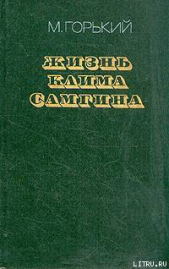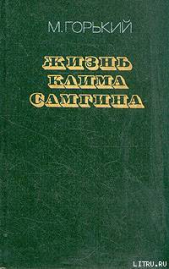Московская книга
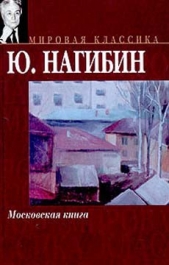
Московская книга читать книгу онлайн
Вниманию читателей предлагается сборник произведений известного русского писателя Юрия Нагибина.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Сейчас много говорят и пишут о трудностях и сложностях, связанных с воспитанием начинающего жизнь человека. Причин для возникновения этих сложностей немало. Но наиболее существенная, на мой взгляд, — ослабление семейного начала, а точнее, материнского начала в воспитании ребенка.
Природа, которая мудрее всех нас, возложила на женщину самую большую заботу — дать жизнь новому существу, научить его первоначальным навыкам в практическом и нравственном плане, очеловечить его. Эта задача так велика и так ответственна, что вершить при этом массу других дел никому не под силу. И часто женщина-мать бывает вынуждена сделать выбор не в пользу ребенка. Едва увидев свет, малыш отправляется в ясли, потом в детский сад, потом на «продленку» — меняются воспитательницы, каждая со своим характером, своими правилами, пристрастиями. Мать становится для ребенка милым, но редко зримым, почти неосязаемым существом — полупризраком. Семья — самое близкое, самое сильное по воздействию на податливую душу ребенка — практически самоустраняется на первом, важнейшем этапе формирования человека. А если в ранние годы в него не было заложено ничего прочного в нравственном смысле, в настрое души, то потом у общества будет немало хлопот с этим гражданином. Необходимо искать выход из положения, в котором оказались многие и многие семьи. Женщина должна быть освобождена для своей самой главной службы — детям.
Другая крайность — чрезмерное опекание ребенка родителями в сегодняшней семье. Тут нет противоречия с тем, о чем только что говорилось. Опека — тоже следствие ослабления семейного начала. Волей обстоятельств родители избавляются от своего чада, пребывающего в самом нежном возрасте, за счет общественных институтов или с помощью хорошо устроенных бабушек и дедушек. В результате с ребенком не устанавливается настоящего внутреннего контакта. Родители недодали ему душевного тепла и, ощущая эту вину, стремятся в будущем оплатить свой духовный долг запоздалой мелочной опекой и всевозможными материальными благами. Виноватые родители покупают подросшим детям модную одежду и всяческие хорошие вещи, прощают любые провинности, избавляют ребенка от всяких обязанностей. Виноватые родители готовят за школьника уроки, устраивают его не по заслугам в лучшие пионерские лагеря и спецшколы и непонятно зачем освобождают от занятий физкультурой. Виноватые родители проталкивают в вузы своих оболтусов, покупают им «Жигули», женят, приобретают кооперативную квартиру, взваливают на свои плечи воспитание внуков. Процесс опекания бесконечен, он тем страшнее, чем шире возможности родителей.
В этих семьях дети стали «недорослями». Родители как бы живут за них. Знакомства и блат кажутся естественными факторами жизни с младых ногтей. Не потому ли иной ребенок так рано приобретает дурную взрослость, цинизм, неверие в бескорыстие, в благородство и этакую презрительную усмешечку, когда дело касается тонких и хрупких ценностей жизни? Тут нет места никакому романтизму, никакой героике — потребителю благ они ни к чему.
Имеет ли смысл сравнивать молодость разных поколений? Мы провели трудовую, бодрую и бедноватую молодость, зато все завоевывали сами. Мы росли на холоду жизни, были наивнее, чище, в житейском смысле глупее, чем нынешняя молодежь. Преимущество ли ранняя утрата наивности?
Может быть, для сегодняшнего времени так лучше. Мир стал другим: более прагматичным, более жестким. У современного поколения естественно вырабатываются иные защитные средства, но это вовсе не исключает того, что пристрастие к материальному, «вещному» обедняет жизнь, делает ее плоской и сухой.
Вспоминается старая притча. Трое толкают тяжелую тачку. И всем троим задают один и тот же вопрос: что ты делаешь? Первый отвечает, что везет драгоценный материал, из которого будет построен великолепный дворец. Второй говорит, что зарабатывает на жизнь себе и своей семье. Третий — что он прикован к этой проклятой тачке… Могу со всей ответственностью сказать: на заре туманной юности мы не сомневались, что везем тачку с драгоценным грузом, что будет построен дворец…
Чистые пруды
Чистые пруды… Для иных это просто улица, бульвар, пруд, а для меня — средоточие самого прекрасного, чем было исполнено мое детство, самого радостного и самого печального, ибо печаль детства тоже прекрасна.
Было время, я знал там каждую скамейку, каждое дерево, каждый куст крапивы возле старой лодочной станции, каждую световую надпись: «Берегись трамвая!», мигающую красным на переходе. У Телеграфного переулка в слове «Берегись» три последние буквы не загорались, получалось красиво и загадочно: «Берег трамвая». И сколько же свиданий назначалось на этом берегу! Мы, мои сверстники и я, не береглись трамвая, как в дальнейшем не береглись жизни. Мы перебегали рельсы наперерез трамваю перед самой тормозной решеткой, садились и спрыгивали только на ходу, промахивали все Чистые пруды, повиснув на подножках, обращенных к железной ограде бульвара, стоя и сидя на буферах, а то, уцепившись сзади за резиновую кишку и ногами скользя по рельсе. Веньке Американцу — он носил клетчатую кепку с пуговкой — отрезало ноги. Он умер по пути в больницу от потери крови, в полном сознании. «Не говорите маме», — были его последние слова. Нас не остерегла Венькина гибель, напротив, мы восхищались его мужеством и считали делом чести не отступать. Для нас, городских мальчишек, трамваи были тем же, чем волки и медведи для ребят таежной глуши, дикие кони для детей прерии. Дело шло напрямую: кто кого? И думаю, мы не были побежденными в этой борьбе…
Чистые пруды — это чудо первого скольжения на коньках, когда стремящиеся лечь плашмя «снегурочки» становятся вдруг послушными, прямо, стройно режут широким лезвием снег, и ты будто обретаешь крылья. Чистые пруды — это первая горушка, которую ты одолел на лыжах, и я не знаю, есть ли среди высот, что приходится нам брать в жизни, более важная да и более трудная, чем эта первая высота. Чистые пруды — это первая снежная баба, первый дом из глины, вылепленные твоими руками, и пусть ты не стал ни ваятелем, ни зодчим, — ты открыл в себе творца, строителя, узнал, что руки твои могут не только хватать, комкать, рвать, рушить, но и создавать то, чего еще не было…
Чистые пруды — это целый мир чудесных неожиданностей. Милые, скромные чудеса моего детства! С дерева спускается широкий холст, на холсте намалевана белая мраморная балюстрада, строй кипарисов, море, в море корабль с раздутыми парусами, а надо всем этим серебряная колбаса — дирижабль с гондолой. Уставившись на холст то слепым, черно-заколпаченным, то живым, стеклянным глазом, покоится на растопыренной треноге коричневый деревянный ящик, который за десять минут может подарить тебе твое изображение на фоне моря, среди кипарисов, с дирижаблем над головой. Для этого нужно, чтобы маленький чернявый человек, одетый зимой в жеребковую куртку, кубанку и бурки, а летом щеголяющий в тенниске, тюбетейке, парусиновых брюках и сандалиях на босу ногу, усадил тебя под кипарисы, затем припал к аппарату, накрыл себя черной тряпкой, резко крикнул: «Спокойно, снимаю!», после чего, сняв колпачок с выпуклого глаза аппарата, описал рукой плавный круг и вновь прикрыл глаз. Да, чуть не забыл: еще этот человек, прежде чем снять колпачок, говорил: «Смотрите сюда, сейчас вылетит птичка». Он говорил это, когда я, четырехлетний, сидел перед глазком аппарата на коленях у отца и разрыдался от того, что птичка не вылетела; он говорил это, когда я, дошкольником, снимался на лыжах под кипарисами и все еще надеялся, что птичка вылетит, и когда я был школьником с козелковым ранцем за плечами и уж не ждал никакой птички; он говорил это, когда в канун окончания школы, в преддверии разлуки, я снимался у него с Ниной Варакиной и опять на миг поверил, что птичка наконец вылетит…
На Чистых прудах ходили китаянки с крошечными ступнями, оставлявшими на песочных дорожках бульвара детский, лишь более глубокий след. Мы нередко отыскивали их по этому следу: китаянки продавали бумажные фонарики, мгновенно сгорающие, едва вставишь в них свечку; голубые, красные, желтые, оранжевые шарики на длинных резинках, набитые опилками, эти шарики чудесно подскакивали на резинке, возвращаясь прямо в ладонь, но удивительно скоро начинали сочиться опилками, съеживались и умирали; трещотки на спичке с сургучной головкой; причудливые изделия из тонкой сухой гофрированной цветной бумаги: с помощью двух палочек им можно было придать различную форму, от шара до улитки, но существование их отличалось, увы, такой же мотыльковой краткостью.