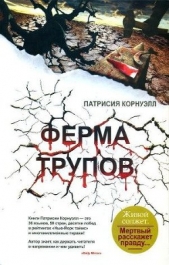Ферма
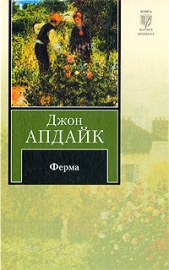
Ферма читать книгу онлайн
Трагическая история любви, боли, беды и одиночества...
Небольшой роман, снискавший восторги критиков и признанный одним из лучших произведений Джона Апдайка.
Преуспевающий житель Нью-Йорка приезжает на ферму, где прошло его детство, чтобы познакомить овдовевшую мать со своей второй женой и пасынком.
Но с первой же минуты этого визита вежливости на ферме возникает опасное напряжение.
Его еще можно разрядить словами.
Но оно сгущается все сильнее...
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Пока мы с Ричардом доставали из багажника чемоданы, Пегги нервно заторопилась матери навстречу, и я с опаской подумал, не обидит ли мать эта бессознательная демонстрация молодого здоровья. В дробном стуке высоких каблуков Пегги по каменным плитам было что-то нетвердое, неустойчивое. Я словно смотрел на нее глазами моей матери и видел высокую накрашенную женщину, искавшую во мне опоры, — но в то же время смотрел и собственными глазами вслед удаляющейся белой юбке, мерцающая белизна которой была центром, средоточием моей жизни. Моя жена не толстая, но сложена крупно, у нее мягко покатые плечи и широкий таз, что придает ее походке веселящую четкость, впечатление простора в бедрах; а меня словно теплом окатывает, когда я на нее смотрю.
Женщины поцеловались. Они уже виделись однажды, в день нашего бракосочетания, хоть я тогда уговаривал мать, чтобы она не приезжала. Церемония состоялась через неделю после того, как был окончательно оформлен мой развод с Джоан, в комнате городского судьи, отца моего давнего приятеля. Здание было допотопное, с лифтами в проволочных клетках и длинными, выстланными коричневым линолеумом коридорами, куда выходил ряд дверей с матовыми стеклами, похожими на двери уборных. День был июньский, жаркий. Окна были по старинке раскрыты, и в комнату вливался шум с Ист-Ривер. Меблировка этого юридического святилища, включавшая деревянную скамью, на которой сидела моя мать, выглядела случайной и скудной на его старомодном просторе, словно этих неодушевленных пережитков далекой судейской эры коснулся тот же неумолимый процесс вымирания, которому подвержено и человечество. Мать держала в руках маленький полотняный платочек и то складывала, то расправляла его на коленях, то вдруг, будто ужаленная, торопливо прижимала к шее. Я боялся, что ее присутствие покажется вопиюще неуместным на этой брачной церемонии, но мы там все были не очень-то на месте: и подросток — сын новобрачной, и супружеская чета с Парк-авеню (жена, сухопарая особа с бельмом на глазу, исполняла роль подружки Пегги), и веснушчатый малый, мой сослуживец, экс-олимпийский чемпион по лыжам и экс-поклонник Джоан, приглашенный мной в шаферы за неимением лучшего кандидата, и папаша Пегги, краснощекий вдовец, директор универмага в Омахе, и, наконец, кадыкастый студент-теолог, племянник моей первой жены, нагрянувший неожиданно вроде как бы делегатом от Джоан и моих детей, которые находились в то время на даче родителей Джоан на каком-то озере в Канаде. В столь причудливом сборище моя мать нисколько не выделялась. Судья, славный старичок альбинос в полотняном костюме в полоску, был с ней очень любезен. Протянув к ней темные узловатые руки с хваткими пальцами рабочего, он заботливо усадил ее на скамью, словно подшил к делу объемистый документ. Она долго оглаживалась и дышала часто и громко, как запыхавшаяся собака. То, что она приехала вопреки моим уговорам — приехала на автобусе, которого в Филадельфии час пришлось ожидать, — показалось теперь героическим усилием преданной матери, и я был ей благодарен. О том, что она здесь, я помнил даже в кульминационный момент церемонии, краешком глаза видя, как порозовел твердый подбородок Пегги и опустились темные лучи ресниц, когда ее профиль склонился к вздрагивающему букету фиалок, приколотому на груди. Она где-то прочла, что невесте, уже побывавшей замужем, не положены белые цветы, и с утра звонила по всем цветочным магазинам Нью-Йорка, задавшись нелегкой целью раздобыть в июне фиалки. И я вдруг подумал о ней, о моей невесте, как о женщине средних лет, несмотря на чистый девичий профиль, — подумал о том, что мы с ней стоим беззащитными новичками на середине широкого пути, у реки, чересчур полноводной для своих берегов. А в раскрытом окне, за плечами судьи, уже облаченного в мантию, выгнутая где-то далеко внизу река медленно катила флотилии крошечных суденышек, и Бруклин, прошитый подъемными кранами, мерцал миражем под высоким предвечерним небом; легкий ветерок залетал в окно и шевелил бумаги на официально бесстрастном дубовом столе. Вокруг спутанного электрического шнура носилась одинокая муха. Но вот прозвучали слова брачной присяги, и я как будто упал, рухнул наконец в твердую глубь чего-то, слишком долго мучившего меня своей незавершенностью. Я повернулся, выслушивая поздравления, принимая и возвращая поцелуи немногим, кто вместе со мною забрался на эту высоту, и меня неприятно поразил враждебно отчужденный взгляд моей матери и холод ее щеки в такой жаркий день.
А сейчас, целуя ее, я почувствовал, что лицо у нее горит, хотя было прохладно. Осень, всегда более ранняя вдали от побережья, уже давала о себе знать и запахом паданцев во фруктовом саду, и прежде всего лиловатым оттенком сгущавшихся сумерек, атмосферой угасания. Над лугом висела полоска тумана — там, где сочилась крохотная речушка, почти ручеек, полузадушенная осокой и водорослями. Летучая мышь, точно сгусток страдания, металась туда-сюда в перепончатой сини между верхушками деревьев. Наспех прикоснувшись к Пегги, мать словно для контраста положила мне одну руку на плечо, другой взяла за локоть и долго не снимала.
— Очень устали? — спросила она. Подразумевалось, что у меня усталый вид.
— Нисколько, — сказал я. — Мы как вихрь промчались через мост и успели съесть по бифштексу в Нью-Джерси.
— Я вовсе не говорю, что у Пегги усталый вид, — торопливо вывернулась мать. — Пегги всегда — сама бодрость и свежесть.
Ее голос возникал словно где-то неглубоко — не в легких, а в горле или даже во рту — и, не связанный с основой ее существа, звучал слегка натужно, но все-таки певуче. Было что-то ироническое в этой певучести ее голоса и в манере держаться, отводя назад плечи, словно чтобы увеличить емкость легких, — какая-то пародийная нарочитость, может быть рассчитанная на то, чтобы мы не догадались, как она себя чувствует на самом деле.
У Пегги сразу потемнело лицо, но она храбро заставила себя улыбнуться и сказала:
— Это только так кажется.
— Все равно смотреть приятно, — сказала мать.
Я взял Пегги под руку и хотел ввести ее в дом, но она отстранилась, давая дорогу Ричарду, который в это время подошел сзади. Я про него совсем забыл. Он настоял на том, чтобы нести чемодан с платьями Пегги, самый тяжелый. Перехватив его левой рукой, он протянул правую моей матери.
— У вас завидная ферма, миссис Робинсон, — сказал он. Недлинные фразы ему удавалось произносить солидно-басовитым голосом.
— Спасибо на добром слове, дружок, — сказала мать. — Но ты ведь ее почти не видал. Я думала, твои родители сумеют добраться засветло и можно будет еще пойти погулять до вечера.
— А мы завтра с утра пойдем, — сказала Пегги. — Я давно об этом мечтаю.
— Я должен заняться косьбой, — сказал я, мысленно гадая, меня ли одного кольнуло неточно употребленное моей матерью слово «родители».
Мать сказала:
— Бедный Джой. Такой совестливый.
— Мне и то, что я видел, очень понравилось, — заверил ее Ричард голосом, снова соскользнувшим в мальчишеский дискант. — Мы проезжали разрушенную постройку, ее легко можно оборудовать под гараж на две машины.
— Это он о табачной сушилке, — пояснил я. — Где я собирался держать мячи и клюшки, когда мы из фермы сделаем поле для гольфа. — Это была старая семейная шутка, придуманная еще при жизни отца. Смысла ее я никогда хорошенько не понимал, но нарочно вспомнил ее сейчас, чтобы прикрыть наивность моего пасынка.
Мать внимательно всмотрелась в него, потом с деланным ужасом воскликнула:
— Да ведь там самые лучшие кусты ежевики!
Мы все засмеялись, благодарные ей за эту попытку хотя бы на миг разогнать хмурь, не покидавшую ее с тех пор, как она начала прихварывать. Ее ум приобрел смущающую силу, мрачную остроту, особенно гнетущую здесь, на воле — как будто, попав на территорию ее фермы, мы были сразу ввергнуты в недра ее раздумий.
Все тем же медленным, может быть, чуть подчеркнуто медленным, шагом мать повела нас к дому. В любой мой приезд домой, начиная с первых студенческих каникул почти двадцать лет назад, всегда наставала такая минута, в которой, как в фокусе, сходились все мои ощущения; так было и сейчас, стоило мне ступить на шершавое каменное крыльцо черного хода под ликующе-яростный лай собак, запертых в сарайчике по соседству с увечным кустом бирючины — этот куст когда-то прободал сорвавшийся с привязи бык, которого моя бабушка укротила потом с помощью фартука. В то лето наш луг арендовал под коровий выпас фермер-менонит, и этот бык, большое животное ржавой масти, принадлежал к его стаду. Поломав расшатавшуюся в уголке за беседкой изгородь, он пронесся по двору фермы, боднул с размаху круглый маленький ярко-зеленый куст и стал перед ним как вкопанный, храпя и мотая головой, точно силясь унять назойливый гул в ушах. Мы все с криком забились в кухню и заперлись там, только бабушка ринулась спасать свой куст, который саженцем привезла из милого ее сердцу олинджерского сада; размахивая фартуком, она ругала быка той самой грозно шипящей скороговоркой, которой, бывало, осаживала навязчивых коммивояжеров, а тем временем подоспели батраки менонита с веревками. Куст выжил, но тяжесть снега с каждой зимой разводила все шире уцелевшие половинки; так он и рос, на две стороны.