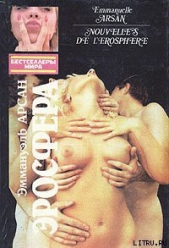Гуннар Эммануэль

Гуннар Эммануэль читать книгу онлайн
Суть романа «Гуннар Эммануэль» состоит в уходе из однообразной нынешней действительности. Сначала любимая женщина героя исчезает, войдя в двери старенькой церкви. (Церковь как таинственная связь времен.) А затем и сам герой, тоскуя по любимой, начинает свои челночные исчезновения — туда-сюда в прошлое и обратно. В этих уходах и приходах — фабула.Аннотация по материалам статьи «Два романа» В. Маканина.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Вера предложила взять с собой бутерброды и бутылку красного вина, но я ведь не мог пить, поскольку был за рулем, я за этим строго слежу. Насколько я помню, мы взяли только бутерброды и термос с кофе. Я помню этот кофе, потому что Вера предпочитала кофе французской прожарки из кофеварки, а я к такому дома не привык. Я любил обычно сваренный кофе средней прожарки. Дома мы пили кофе «Сиркель», поскольку и Берит, и дедушка были членами «Консума» {1}. И вот рано утром майским днем мы поехали в церковь Тенсты.
Мы осмотрели фрески, они написаны в 1437 году Йоганнесом Розенродом {2}, который был, кажется, очень известен в свое время. Там были изображения Адама и Евы в раю, и как их изгоняют из рая. Были изображения Страшного суда и всех блаженных. Блаженные — это одни лица, окруженные крыльями, потому что у блаженных нет тела, им ведь не надо перемещаться во времени и пространстве. Они просто существуют в вечном настоящем, не сводя глаз с Господа. А крылья у них, верно, для того, чтобы сохранять неподвижность в этой их вечности.
Точно не помню, но, по-моему, Вера изучала историю искусств, потому как она столько всего рассказывала, о том, что считала важным. И ее было интересно слушать. Конечно, многое было мне знакомо, поскольку чему бы я ни научился у дедушки, а уж Библию-то знаю почти наизусть. Не потому, что я уж такой хороший христианин, каким должен был бы быть, но Библию знаю. И многое было мне знакомо.
Но тут было, пожалуй, многовато для одного раза. Потом мало чего помнишь. Но я помню изображение Иоанна Богослова с орлом. Иоанн держал ленту, на которой было написано «ed. vitam. aeternam. amen.» [2], и Вера сказала, что это значит, потому что она изучала латынь. И там было изображение государственного советника Бенгта Ёнссона Уксеншерны, который молился, стоя на коленях, ведь все это Йоганнес Розенрод написал в эпоху феодализма, до того, как Швеция стала капиталистической.
Вера вышла из церкви первой, потому что я помню, как покачивались ее бедра, обтянутые голубыми джинсами. Я помню это, потому что у меня стало сразу так радостно на душе из-за того, что у нее есть бедра, и она создана, как должна быть создана женщина. Никакой разумной причины радоваться этому нет, но когда вот так разом делается радостно на душе, это обычно происходит без всякой разумной причины. Да, я так вот разом обрадовался, что Вера вообще существует, мне даже пришлось приложить ладонь ко лбу, когда мы вышли, и притвориться, будто у меня от солнечного света заболели глаза.
И в каком-то смысле так оно и было, потому что снаружи было очень светло и тепло после темноты и холода внутри церкви. Солнце, желтое и круглое, катило по небу. Это как будто был совсем другой мир.
И Вера стояла там в лучах солнца и смеялась надо мной. В голубых выцветших джинсах и черной, в резинку, шерстяной водолазке, бледная, как обычно, но она смеялась надо мной, и глаза ее сияли. Я не рассердился, что она смеется надо мной, она не имела в виду ничего плохого. Я не обиделся. Вскоре я тоже начал смеяться. Было немножко странно стоять вот так возле церкви и смеяться, когда смеяться особенно не над чем, но так было, и все тут.
Солнце ярко сияло, был майский день, как я уже говорил, и кирпичи старой церкви пламенели. Над высохшей равниной клубилась пыль, но березы стояли в свежей зелени. Мы слышали множество жаворонков, один пел совсем рядом, а чем ближе к равнине, тем их было больше. В тот день можно было проехать Швецию из конца в конец и повсюду слышать пение жаворонков.
Пока ничего странного не произошло. Я только ощущал огромную радость без особой на то причины. Я радовался, что мы с Верой есть, что нам предстоит быть вместе, и нам нравится быть мужчиной и женщиной, что мы будем жить вместе всю жизнь, лишь бы мне найти работу.
Пока была только огромная радость.
И мы пошли к «Фольксику» за припасами. Мы решили устроиться в березовой роще возле дороги — перекусить и выпить кофе. Я растянулся на траве, Вера улеглась рядом. Она уткнулась головой мне в шею, как делала в особенных случаях. Никто из нас ничего не говорил. Мы просто лежали не шевелясь.
Мне хотелось плакать, но это вроде как смешно. Дома в Бергшё не увидишь плачущих мужчин, разве что какого-нибудь пьяницу разок-другой, но я был не пьяный, только счастливый. Такой счастливый, что мне хотелось плакать, но было нельзя.
Вера лежала рядом со мной, и я обнимал ее, мы ничего не говорили, и я не знаю, сколько это продолжалось. Над нами порхала желтая лимонница, казалось, она пыталась что-то написать желтыми чернилами в воздухе. Возле нас бегала взад-вперед трясогузка. Она охотилась за комаром, останавливалась, покачиваясь, пробегала еще немного, и так все время. И бабочка порхала, и над равниной заливались жаворонки. Может, птицы пели в тот день над всей Швецией.
Тогда-то вот это и случилось.
Когда я потом рассказал об этом моему учителю, он уверил меня, что это вполне естественно. Ежели ты очень счастлив, может возникнуть такое чувство. А я был счастлив, как я здесь пытался объяснить, но каким образом это счастье может быть связано с тем, что я почувствовал? Ведь жить с Верой значит жить во времени, верно же? А я-то не этого хотел.
Не стану винить моего учителя, хотя он чуток нервничал и выражал нетерпение, но досадно, что он не дал мне никакого объяснения. Раз уж я сам не мог объяснить.
Вот что приблизительно случилось.
Трясогузка остановилась, повернула головку и посмотрела на меня своим черным глазом. Потом расправила крылья, вспорхнула и исчезла.
Именно в этот момент я почувствовал сильное желание выйти из времени.
Не знаю, как и сказать.
Я ведь знал, что будет дальше. Как бы здорово нам ни было сейчас, но раньше или позже мы должны будем сесть и начать разговаривать о разных вещах, потом съедим наши бутерброды и выпьем Верин кофе, который на мой вкус крепковат, потом вернемся обратно в Уппсалу, попытаемся немножко позаниматься, ночью, может, похороводимся, ежели возникнет желание, и время будет все идти и идти. Возможно, я найду работу, если наконец-то конъюнктура станет получше, возможно, мы съедемся, или поженимся и заведем детей, и раньше или позже я повезу Веру к Берит, хоть понятия не имею, как они, или Вера с Барбру, сойдутся, а время будет все идти и идти.
Да, время будет идти и идти, и я, Гуннар Эммануэль Эрикссон, буду жить во времени и в силу моих слабых сил бороться с историей, и с каждым днем немножко стареть и в лучшем случае стану таким же старым, как и дедушка, и однажды человек по имени Гуннар Эммануэль Эрикссон, личный номер 560526–1295, умрет.
Не то чтобы я размышлял о смерти, об этом я никогда особенно не думал. Пока мне еще, пожалуй, трудно представить себе такое. Старость сама по себе вещь нелегкая, но смерть ведь — это вообще ничто, и все-таки люди хотят стариться и смерти боятся больше, чем старости, и это довольно странно. Этого я не понимаю.
Так что вовсе не мысль о смерти заставила меня почувствовать, что я больше всего на свете хочу выйти из времени. А скорее то, что все это историческое, движущееся во времени, кажется сейчас таким огромным, тяжелым, неповоротливым. Не знаю, можно ли обвинять стариков в том, что мир выглядит таким, каков он есть. Мой учитель говорит, что над этим не стоит ломать голову, но он же сам старый и, можно сказать, является заинтересованной стороной. А у меня сильное ощущение, что ежели я сделаю единственную честную попытку исправить историю, то мне нужно для этого приложить все мои силы и все мое время. Если вообще в этом есть смысл. Потому как что бы ты ни делал, не хочется делать это кое-как.
Все мое время и все мои силы, ежели у меня вообще хватит смелости надеяться повернуть историю в нужном направлении. И вдобавок еще требуется, чтобы люди по доброй воле хоть разок поладили между собой и взялись за дело изо всех сил.